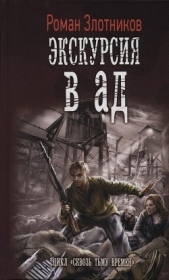Иверский свет

Иверский свет читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ковского имеет лишь косвенное отношение, как пикас-
совский «Дон-Кихот» — к «Дон-Кихоту» Доре.
Леонардо да Винчи сетовал в трактате о живописи,
что художники пишут, изображая в персонаже себя са-
мих, «ибо это вечный порок живописцев, что им нравит-
ся и что они делают вещи, похожие на себя».
Переводчик, если он подлинный поэт, — такой порт-
ретист. Это присутствие судьбы, характера, воли поэта
и притягивает нас к стихам.
Ты спала непробудно • гробу
В стороне от вседневности плоской.
Я смотрел на твою худобу.
Как на легкую куклу из воска.
Как проступает сквозь строки эти «недотрога, тихоня
в быту». А дальше:
Я укрыться убийцам не дам,
Я их всех, я их всех обнаружу,
Я найду, я найду их. Но сам. „
Сам я всех их, наверное, хуже.
Читать эту книгу — скулы сводит.
Вся книга — дактилоскопический оттиск мастера, его
судьбы. Даже когда натыкаешься на вещи, написанные
скованно, через силу — для хлеба насущного, — даже,
может, особенно тогда, это самые горестные, берущие
за сердце строки Сердце сжимается от горестной ноты
художника, заложника вечности в плену у времени. Так
и видишь мастера в рубашке, закатанной по локоть, так
и знаешь все о нем — и как в дачные окна тянет ночным
июнем и яблоней, и как тянет писать свое, а квадрат
бумаги так вкусно разложен, холка светится, под ложеч-
кой посасывает, и вот-вот это начнется — а тут этот чер-
тов подстрочник, и надо как-то жить, и он досадует, и
лицо его отчужденно, и он отпугивает, отмахивает бабо-
чек, залетающих на свет, на рубашку, в четверостишия,
он отгоняет их и отряхивает холку, и первая строка идет
как-то с трудом, через силу будто («радостнее, чем в
отпуск с позиции»). Но ритм забирает, и уже понесло,
понесло:
Редкому спится. Встречные с нами.
Кто б ни попался, тот в хороводе.
Над ездовыми факелов пламя.
Кони что птицы. В мыле поводья.
И пошло, пошло, пошло, в праздничном махе сердеч-
ной мышцы летят фольварки, и дьявольщина погони, и
Шопен, и такая Польша, Польша, — как там? — «Про-
стите, мне надо видеть графа. О нем есть баллада, он
предупрежден... »
Молча проходим мы по аллеям.
Дом. Занавески черного штофа.
Мы соболезнуем и сожалеем.
В доме какая-то катастрофа.
Едемте с нами в чем вас застали.
К дьяволу карты! Кони что птицы.
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.
Сердцевина книги, ее центр — два мощно сросшихся
ствола, два рильковских реквиема, их разметавшиеся
кроны и корни выходят за пределы книжного формата,
лишь угадываются и шумят в иных измерениях.
Впрочем, и вся книга — в чем-то праздничный рекви-
ем по тому, что могло бы быть на месте этих переводов.
Поразительно, сколько сотворил он: Шекспир, весь;
«Фауст», любому бы хватило на жизнь — и сколько бы
он создал, не занимаясь этим. Горестно, какой ценой,
какой кровью давалось это донорство, писались эти
строки. Строки этой книги бесценны — какой ценой они
оплачены. Переводил других — себя, свой дар перево-
дил. И какой дар!
Но вернемся к созданному. Сквозь решетку строчен
видны лица и места пережитого и виденного.
Сквозь рынки, готику, бородачей «Лютера» просве-
чивает Марбург.
Однажды мне довелось проникнуть в его кладовую,
к истокам мастерства, я роддом его, что ли. Это был
Марбург. Везти меня туда не хотели. Меня отговари-
вали. Мол, зачем давать крюка, не запланировано, завт-
ра вечер в Ганновере. Я отмалчивался. Я-то знал, что,
может, все эти запрограммированные телестудии, ме-
сячные вечера, пресса были лишь даванием кругаля
ради Марбурга, ради нескольких часов в нем. И даже
встреча с Хайдеггером, часовые колдовские речи с ним
о слове и сущности слова имели подсознательную па-
раллель с Когеном. Это был мостик туда. Сознание ин-
стинктивно расставляло шахматную ситуацию, где мар-
бургские колокольни, где ночи .играть садятся в шах-
маты.
«Охранная грамота» была библией моего детства.
Я страницами шпарил текст наизусть без передыха.
В Марбург я ехал тайком, не оповестив никого, ехал со-
глядатаем, на цыпочках поглядеть, подслушать.
Марбуржцы встретили на перроне, как снег на голо-
ву, без шпаг и самострелов, в лыжных нейлоновых мол-
ниях, с велосипедами, поволокли в «мерседес». Мимо
окон удлинялись параллелепипеды новых зданий.
Марбург двухэтажен, как дом с каменным низом.
Подножие — современные строения, новый университет.
В нем мы. Дымом встает над ним старый город с ког-
тистой готикой. Он будто горб на горе или, вернее, буд-
то рюкзак, в котором угадывается и вот-вот выхлестнет
скрытый пар парашюта. Он полон обычаев, обрядов,
охранной грамоты.
До утра шел студенческий сыр-бор, как водится, с
водкой, свечами, вакханалией, политическими спорами.
Марбуржцы угощали меня пивом и записями Окуджавы.
Ковер был мохнат, и на нем можно было валяться. Пере-
водчик моих стихов Саша Кемпфе, не выдержав режима,
удалился спать.
Я ускользнул в старый город. Был рассвет. В улич-
ном автомате за стеклом ждали пфеннигов сигареты и
завернутые в целлофан живые тюльпаны. Я искал его
адрес. Старый город был инсценировкой по «Охранной
грамоте». Дома срепетированно повторяли позы и же-
стикуляцию текста. Я кивал, когда это им особенно уда-
валось. Вот здесь жил Мартин Лютер. Здесь — братья
Гримм. Когтистые плиты. Мы думали, Пастернак — фан-
таст, Клее, а он — нате вам! — скрупулезнейший доку-
менталист. Так же ошарашивают пейзажи Михайловско-
го — сосны, дуб. Гении точны, как путеводители. И тот
же дом, где он жил, — седой, аляповатый.
Дом напротив бензозаправки «ЭССО».
Фрау, отворившая дверь, конечно, знает о Пастер-
наке. Она новенькая и элегантная. Вот только в какой
комнате — в этой, в той ли,—не знает. А в окнах стояли -Гу-
манные матрицы текста. Алые бензоколонки, как бубнов-
ки и черви, были перетасованы с черной решеткой готики.
На поезд я, понятно, опоздал.
Владелец местной картинной галереи еле домчал нас
на запыхавшемся «БМВ» к началу вечера в Ганновере.
Переводы Пастернака — это доминионы его держа-
вы. Это прочтение средневековья глотками актеров на-
шего века. Переводя Шекспира, он вдруг наталкивался
на цитаты из Маяковского. Например, Ромео говорит
там о любовной лодке, разбившейся о быт. Это не влия-
ние, а совпадение судеб. Это заклепки, соединяющие
времена, нации, судьбы. Иначе к чему бы читать все
это, если все замкнуто исторически.
А какого он написал Гамлета!
Гул затих, я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске.
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси,
Если только можешь, авва отче.
Чашу эту мимо пронеси.
Я пюблю твой замысел упрямый,
И играть согласен эту роль,
Но сейчас идет иная драма,
И на этот раз меня уволь...
Но намечен распорядок действий.
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе
Жчзнь прожить — не попе_ перейти.
В память врезалась премьера «Ромео» у вахтангов-
цев. Я — школьник. Меня пригласил с собой Пастернак.
Обмирая, я касаюсь его локтя в соседнем кресле. Левое
ухо мое, щека, плечо, коленка — как обморожены,
немеют от соседства. Вернее, лицом, глазами стала эта
онемевшая левая часть лица, головы, щек. Они видят
слева удивленно восторженный профиль и светящуюся
челку на лбу Так странны на нем пиджак и галстук. Ино-