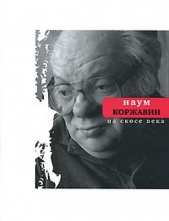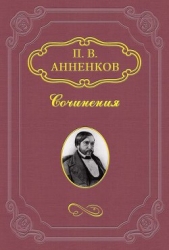От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа

От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа читать книгу онлайн
Центральная тема книги – судьба романа «сервантесовского типа» в русской литературе XIX—XX веков. Под романом «сервантесовского типа» автор книги понимает созданную Сервантесом в «Дон Кихоте» модель новоевропейского «романа сознания», в том или ином виде эксплуатирующего так называемую «донкихотскую ситуацию». Уже став «памятью жанра» новоевропейского романа, «Дон Кихот» оказался включенным в состав сложных многожанровых конфигураций. Поэтому читатель найдет в книге главы, в которых речь идет также о пикареске (так называемом «плутовском романе»), о барочной аллегорической «эпопее в прозе», о новоевропейской утопии, об эпистолярном романе, немецком «романе воспитания», французском психологическом романе. Модернистский «роман сознания» XX века, представленный на Западе творениями Пруста, Джойса, Кафки, Унамуно, в дореволюционной России – прозой Андрей Белого, в России послереволюционной – антиутопиями Замятина и Платонова, прозой А. Битова, наглядно демонстрирует способность созданного Сервантесом жанра к кардинальным трансформациям.
Книга адресована критикам и литературоведам, всем интересующимся теорией и исторической поэтикой романа, русским романом в западноевропейском литературном контексте.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Образ «закинутой назад» головы I-330, как бы отделенной от ее тела, не раз возникающий в записках Д-503, явно отсылает читателя к образу Орфея (одного из «двойников» Диониса), к его растерзанию и к его отсеченной голове, носимой по морю по воле волн…27 Подобно Орфею, I-330 воплощает музыкальную душу мира (ср. эпизод ее фортепьянного исполнения Скрябина на лекции в Аудиториуме). Чтобы вызволить из-под власти Благодетеля душу Д-503, души всех обездушенных «нумеров» – обитателей не подземного, так подводного Аида, Города-Аквариума за Зеленой Стеной28, она покидает зеленые просторы живого застенного мира и поселяется в мире мертвых29, то и дело переходя границу, разделяющую оба мира.
Но – в отличие от Орфея, в отличие от своей «дублерши» О-90 (другой, настоящей половинки Фанета?) – I-330 движима не столько чувством любви к Д, сколько революционным порывом, стремлением спасти человечество и мироздание от неминуемого конца. Она – вдохновенная служительница культа Мефи (Мефистофеля), Дьявола. И если природа Д-503 двойственна, двуначальна, то сущность I-330 двусмысленна, обманчива и протеистична. Она – оборотень, поворачивающийся к Д-503 и к читателю разными, нередко взаимоисключающими, личинами: Орфей, Христос, Черт, Ева, Змей-соблазнитель…30 Темный крест, который чудится Д на ее лице, может быть истолкован и как знак креста, и как крест, перечеркивающий сатанинский лик, а если его развернуть на 45 градусов – как «мохнатый» «четырехлапый» икс – знак страны древних снов, откуда она является в «ясный» мир Д… Постоянный спутник I, ее Хранитель – провокатор S, атрибут коего – «розовые крылья-уши» (568)31. Сплетясь с сюжетом конспирологическим, с темой антигосударственного заговора, любовный сюжет в «Мы» превращается в антилюбовный, в раскручиваемый по ходу действия клубок измен и предательств – вплоть до финальной сцены – пытки I, наблюдаемой равнодушным взором искалеченного Д-503. И подобно тому, как утопия под пером повествователя-романиста романа превращается в антиутопию, «ромэнс» в сюжете «Мы» трансформируется в «антиромэнс».
Подобным же образом – если перекинуть мостик к металитературному сюжету «Мы» – «документальные» записи Д на самом деле запечатлевают жизнь-сон, сплошной обман, сплошную фикцию. Мотив жизни-сна, проходящий через «Мы» и эксплицированный в последних записях Д-503 («все это – только сон», 647), прямо отсылает читателя к знаменитой барочной драме П. Кальдерона «Жизнь есть сон» (1635?), заново открытой русской культурой Серебряного века.
То, что этот мотив в «Мы» имеет кальдероновские корни, подтверждает и другой, уже не столь популярный, а оригинально кальдероновский образ Человека-великана, исполина, который, выпрямившись во весь рост, может «разбить на солнце его стеклянные окна» (см. диалог Сехизмундо и Клотальдо в 3-й сцене 1-го акта32). Кальдероновская развернутая метафора Великана-бунтаря, бьющего стекла, дважды – с некоторыми вариациями – возникает в записях Д: «…будто… я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь…и я как башня. Я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин…» (551); «Разве не казалось бы вам, что вы – гигант, Атлас – и если распрямиться, то непременно стукнетесь головой о стеклянный потолок» (648). И хотя в процитированных фразах прямого упоминания о солнце нет, образ разбитого на маленькие «детские солнца», отраженного в бляхах-нумерах, а затем – укрощенного, «посаженного на цепь» солнца присутствует тут же, на этих же страницах «Мы».
Другим, контрастным и одновременно смежным по отношению к разбитому солнцу / небу, мотивом-символом иллюзорности, мнимости описываемого Д мира является туман (его варианты – дым, дымы, дымок от папиросы I…): «Но это какое-то другое, хрупкое стекло – не наше, не настоящее, это – тонкая стеклянная скорлупа… И я не удивлюсь, если сейчас круглыми медленными дымами поднимутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется чернильно…» (577).
Мотив «тумана» в «Мы», очевидно, восходит к «туманным» плоскостям» «Петербурга» Андрея Белого, и далее – к «Сну смешного человека» Достоевского («поднимающиеся вверх купола аудиториумов» – к нему прямая отсылка), к «Невскому проспекту» Гоголя, к «Исповеди англичанина, любителя опиума» Де Квинси33 и, в конечном счете, к позднему Шекспиру, к его фантасмагорической «Буре». К монологу Просперо из 1-й сцены 4-го акта:
Жизнь – это сон, иллюзия. Балаган. Все сюжетные линии «Мы» строятся на том, что Андрей Белый назвал бы «Великой Провокацией». Оба мира «Мы», противостоящие друг другу, – Город и застенный, замкнутый в себе и иррационально-бесконечный, как верно подметил С. Л. Слободнюк, – творения антихристиан34. И основой этой тотальной системы отождествлений Христа и Антихриста, Добра и Зла, их взаимных превращений, как показано в трудах того же автора35, является гностицизм, пустивший глубокие корни в русской культуре рубежа столетий. Недаром и в статье Замятина «Рай» – своеобразном комментарии к одному из аспектов «Мы» – пародии на Пролеткультовскую эстетику и философию истории – в качестве творца мира выступает гностический Иалдабаоф – демиург, «синтетический» бог-творец, для которого созидание немыслимо без разрушения, Добро без содействия Зла, бог, нуждающийся в постоянном сотворчестве со стороны Сатаны – Мефистофеля, жрицей которого является I-330. И если у Вяч. Иванова, Дионис / Аполлон – предтеча Христа (так и у Белого в «Серебряном голубе»), то в «Мы» он – и праобраз Мефистофеля, и предтеча Благодетеля-Великого инквизитора, которые, тем не менее, сходны по существу – как антагонисты Христа и христианства. Благодетель, выдающий себя за того, кто воплотил идеалы древних христиан, равно как и I-330, заявляющая об антихристианстве служителей культа Мефи, да и как сам Замятин-публицист, уверенный в том, что «победивший Христос – Великий инквизитор», играют в подмену понятий, в подлог, в обман.
А Машина Благодетеля, о которой как о Голгофе рассуждает и Благодетель в разговоре с Д и которая ожидает I-330, – вовсе не Голгофа.
Древнее жертвоприношение во имя поддержания круговорота бытия и реальная, а не метафорическая Голгофа, жертвенное страдание Христа во имя искупления грехов человечества, во имя разрыва роковой цепи насилий и мести, – совершенно разные вещи, Голгофа – конец циклического чередования жертвенных кризисов (Р. Жирар) и их преодолений в акте заклания «козла отпущения». Это – конец замкнутому в себе античному Космосу: все еще замкнутый в птолемеевские сферы тварный мир Средневековья уже открыт – в трансцендентное, а мыслители и ученые XVI–XVII веков разомкнули в бесконечное и мир посюстороний («Открылась бездна звезд полна…»).
Революционная идея бесконечности, высказанная I-330 (нет последнего числа!) и проговоренная (хотя тут же задвинутая на периферию сознания) самим Д-503 в ключевой «мениппейной» (она происходит в апокалиптический час революции в туалете подземки) беседе Строителя Интеграла и безумного философа, дает человечеству шанс спасения (закон энтропии – напомним! – действует только в замкнутых системах). Но без опоры на Высшее начало бытия, которое может быть только спародировано в низшем (Дьявол – обезьяна Бога!), идея бесконечности трансформируется в мысль о бесконечности превращений: «я» в «мы», отдельного в целое, и наоборот.