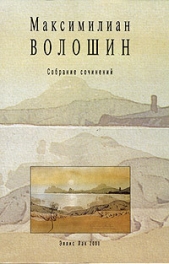Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов

Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов читать книгу онлайн
Эта книга — первый опыт междисциплинарного исследования творчества поэта, прозаика, художника, актера и теоретика искусства Дмитрия Александровича Пригова. Ее интрига обозначена в названии: по значимости своего воздействия на современную литературу и визуальные искусства Пригов был, несомненно, классиком — однако его творчество не поддается благостной культурной «канонизации» и требует для своей интерпретации новых подходов, которые и стремятся выработать авторы вошедших в книгу статей: филологи, философы, историки медиа, теоретики визуальной культуры, писатели… В сборник вошли работы авторов из пяти стран. Кроме того, в книге представлены записи нескольких интервью и интеллектуальных бесед с участием Пригова и наиболее важные, этапные для осмысления его творчества статьи исследователей московского концептуализма 1970–2000-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Марк Липовецкий
ПРИГОВ И БАТАЙ: ЭСТЕТИКА СИСТЕМНОЙ РАСТРАТЫ
В настоящей статье я не собираюсь выяснять, насколько Жорж Батай и его философия повлияли на творчество Дмитрия Александровича Пригова, поскольку не обладаю никакими данными, позволяющими исследовать этот вопрос. Меня интересуют исключительно типологические соответствия и параллели между философией растраты Батая и творческими методами Пригова. Постановка такого вопроса мне кажется вполне законной, учитывая то обстоятельство, что философия Батая сформировалась на основании художественных практик сюрреализма и во многом предвосхитила эксперименты послевоенного авангардного искусства. Влияние же сюрреализма на московский концептуализм, хоть и требует специального исследования, все же представляется достаточно очевидным.
Подобный взгляд, естественно, редуцирует конкретные поиски Пригова до некоторой метастратегии и неизбежно упускает важные подробности. Но такая попытка может оказаться небесполезной, если позволит несколько «остранить» наше восприятие Пригова, подсказанное ближайшим контекстом. Дмитрий Голынко-Вольфсон в статье, опубликованной в мемориальном блоке «Нового литературного обозрения», помещает Пригова в один символический ряд с такими поэтами, как Малларме, Тракль, Мандельштам и Целан [406]. Мой доклад преследует сходную цель: рассмотреть Пригова как полноправного участника диалога с той художественно-философской традицией европейского авангарда, которую лучше многих артикулировал Батай.
Батай, может быть, первым пытается создать целостную систему символической экономики. В центре этой модели находится категория растраты, которой он, опираясь на описанные Марселем Моссом ритуалы потлача, придает значение универсального, а не только архаического, символического механизма: «Если система уже не может больше расти или же избыток энергии не может быть поглощен для ее роста, то эту энергию необходимо потерять безо всякой пользы, растратить, по собственной воле или нет, со славой или напротив — катастрофическим образом» [407]. К такой необходимой растрате избыточной энергии Батай относит и такие феномены, как смерть, обжорство, эротизм, роскошь, война; и такие, как пиры, дары и жертвоприношения, которые он рассматривает как разновидности потлача. Батай объясняет этот механизм, с одной стороны, тем, что он называет «давлением жизни» — «солнечная энергия» избыточна, и она ведет к избытку жизненной силы, требующему растраты.
С другой стороны, растрата служит оформлению сакрального и власти как функции сакрального. Жертвенная растрата ценного вырывает человека «из убожества вещей, чтобы вернуть к порядку божественного» (с. 51). В то же время расточительство приносит престиж и авторитет: «давать означало приобретать власть… Субъект обогащается благодаря своему презрению к богатству» (с. 61). Отсутствие в социуме регулярных каналов растраты и потлача, считает Батай, ведет к чрезмерному накоплению богатства и энергии, выплескивающемуся в разрушительных войнах: в этом он видит главную проблему капитализма. Вообще попытка применения этой модели к современным политическим системам обнажает границы батаевской философии: так, говоря об СССР, Батай уверяет, что «советский коммунизм закрыт для принципа производительной траты» и представляет собой первую в историю систему, которая использует «избыток ресурсов исключительно для роста производительных сил», чем не только противоречит самому себе, доказывая возможность системы, не включающей в себя растрату, но и закрывает глаза на террор (как массовые жертвоприношения и растрату человеческих жизней) и известные ему примеры социально-экономического абсурда (той же растраты). Очевидно, что модель Батая относится прежде всего к символической экономике, а точнее всего соответствует авангардному искусству, что, собственно, и демонстрируют статьи Батая о сюрреализме, а также очерки, вошедшие в его книгу «Литература и зло».
Более точное описание отношений между символической растратой и советской культурой, а также позднесоветским андерграудом, и в особенности, концептуализмом, предложено в работах Бориса Гройса. По мнению Гройса, высказанному в статье 1991 года «Московский концептуализм, или Репрезентация сакрального», описанные Батаем практики ритуального уничтожения в целях производства сакрального отчетливо присутствуют в сталинской культуре: «…Сакрализованное и чисто разрушительное потребление вещей и людей было характерно для Советского Союза после создания в нем нового сакрального культа вокруг импортированного с Запада марксизма и идеологии индустриализации» [408].
Как ни странно, эта черта советской цивилизации была скорее утрирована, чем преодолена в постсоветский период: постсоветский капитализм вообще, по-видимому, точнее описывается в категориях символической экономики растраты, чем собственно в категориях капиталистического прагматизма, — кажется, первым это заметил Пелевин в «Generation „П“» [409]. По мысли Гройса, московский концептуализм с начала 1970-х годов занимался «реконструкцией этого культа, уже тогда предчувствуя его исчезновение. Оригинальность русской ситуации описывается при этом через следы разрушительного потребления, которые этот культ оставил на предметах современной — прежде всего западной — культуры <…> Новое русское искусство экспортирует на Запад импортированные в свое время оттуда же культурные формы — но поврежденные и разрушенные их использованием в русской истории» [410].
Присутствие принципа растраты, символического потлача, в поэзии Пригова кажется самоочевидным фактом. Все его творчество представляет собой методическую растрату омертвелых, избыточных символических ресурсов, накопленных советской цивилизацией, да и русской классической традицией тоже. Он взял на себя роль «давления жизни», взрывающего асфальт авторитетных языков культуры; он подверг практически все дискурсы, претендующие на символическую значимость, веселому, а когда и страшноватому потлачу. При этом Пригов в своем творческом поведении, кажется, соединил две стратегии, описанные Батаем. Многие критики сравнивали методически-бесперебойное беспрецедентно-массовое производство приговских текстов со стахановством [411], то есть с тем, что Батай воспевает как производство, «решительно закрытое для принципа непроизводительной траты… на пределе человеческих сил» (с. 141). Однако не в меньшей мере относится к Пригову — особенно советского и раннего постсоветского периодов — и батаевская характеристика плана Маршалла как организованной траты ресурсов в пользу разоренной войной Европы. Иначе говоря, если Пригов и был поэтом-стахановцем, то его производительный труд был направлен на системную трату символических капиталов.
Б. Гройс отмечает, что сама теория «всеобщей экономии» Батая представляет собой радикальную попытку демифологизации и в то же время экспансии позиции «проклятого поэта», за которой встает романтический идеал поэзии, в соответствии с которым «современный поэт — это последний воин, расходующий себя и других, чтобы инсценировать свою гибель как праздник» [412]. Основной заслугой Батая Гройс считает то, что «он экономизирует романтический идеал поэта именно как идеал и показывает тем самым, что его формирование само по себе уже есть экономическая операция» [413]. Эта характеристика в полной мере приложима и к Пригову, который своим (квази)научным комментарием демонстративно обнажал рациональный характер своих экстатических потлачей как наиболее адекватных форм участия в современной символической экономике, противоположных «аутентичному» переживанию роли романтического поэта. Приговское исполнение собственных стихов и в особенности его перформасы поражают именно тем сочетанием разных модальностей: с одной стороны, они подчеркнуто экстатичны — что указывает на «растратный» характер поэтического ритуала; с другой стороны, в них постоянно ощущается рационализирующая, остраняющая позиция автора-исполнителя, которая к тому же нередко расщепляется на голос «предуведомления» и экстравербальные средства — от выражения лица до интонационных особенностей, — обозначающие дистанцию в процессе перформанса.