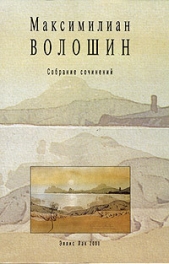Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов

Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов читать книгу онлайн
Эта книга — первый опыт междисциплинарного исследования творчества поэта, прозаика, художника, актера и теоретика искусства Дмитрия Александровича Пригова. Ее интрига обозначена в названии: по значимости своего воздействия на современную литературу и визуальные искусства Пригов был, несомненно, классиком — однако его творчество не поддается благостной культурной «канонизации» и требует для своей интерпретации новых подходов, которые и стремятся выработать авторы вошедших в книгу статей: филологи, философы, историки медиа, теоретики визуальной культуры, писатели… В сборник вошли работы авторов из пяти стран. Кроме того, в книге представлены записи нескольких интервью и интеллектуальных бесед с участием Пригова и наиболее важные, этапные для осмысления его творчества статьи исследователей московского концептуализма 1970–2000-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На ранней стадии творчества, в 1978 году, жанр большинства своих творений Пригов связал с пародией, мотивировав это в следующем предуведомлении — во многом тоже ироническом:
Я, несомненно, являюсь представителем пародизма (да и слово-то само приятно своим созвучием с парадизом). Наиболее известный пример — это пародии на литературные произведения, где (пусть в ограниченном масштабе и, соответственно, с более узким охватом жизни) проявляются основные черты пародизма: отрывание стилистики описания от предмета описания… Если же мы перейдем к предмету нашего прямого разговора, к высокому пародизму, мы обнаружим то же самое: невозможность полного наложения стилистики на предмет описания, который не является предметом собственно, но есть сумма множества наросших культурных стилистик, которые в смутном своем неразличении определяемы как предмет и противопоставляются какой-либо конкретно отличимой стилистике определенного времени. Именно в эту щель и влезает пародист с целью вьивить суть времени, материализовавшегося в стилистике, и точки его прирастания к вечности… При достаточно верном вживании в структуру взаимодействия данной стилистики с предметом стилистика может быть оттащена столь далеко от предмета, что превратится в самодостаточную систему и сама может стать предметом описания [389].
Я сочла необходимым привести столь пространную цитату, т. к. в ней Пригов, на мой взгляд, отчетливо сформулировал, в чем его поэтика близка пародизму, а в чем выходит за его пределы, заслужив в этом автометаописании имя «высокого пародизма». Хотя точности ради следовало бы оговорить, что жанровую традицию, к которой примыкает этот ряд творений, начатый «Культурными песнями», было бы точнее называть не пародией, а перепевом. Как известно, перепев, в противоположность пародии, не отличается непременной смеховой направленностью на прототекст. В нем просто используется широко известная ритмико-синтаксическая структура, сюжетная схема или словесная формула [390]. Главное условие комического, а то и сатирического эффекта в перепеве — широкая известность прототекста и подчеркнутое несоответствие стилистики сюжету или теме. Так построены перепевы Д. Д. Минаева (к примеру, его «„Евгений Онегин“ нашего времени»), Н. А. Некрасова (перепев «Казачьей колыбельной песни» Лермонтова), и т. д. С точки зрения нашей темы особенно интересны дурашливые перепевы из числа всякого рода школьных и студенческих переделок хрестоматийного, обязательного материала — своего рода стихийный бунт против авторитарно насаждаемой нормативности, восходящий еще чуть ли не к средневековым пародиям на литургический ритуал. Самым общим признаком этого жанра можно, видимо, считать установку на создание иронической картины текста, осмысляемого в его «приросшем» ментальном окружении, — установку, которая предполагает проблематичность, а то и скрытую конфликтность такого существования текста. Кажется, именно этот аспект жанра выдвинулся на первый план во многих творениях Пригова, обернувшись вопросом о соотношении индивидуальнотворящих и коллективно-обезличивающих деятельностей. Чуть ли не любое его произведение предстает как пространство борьбы этих противонаправленных энергий. Более того: динамика соотношений художника с его ментальным окружением у Пригова предстает воплощенной в многоголосом тексте, основу которого образует напряжение между прототекстом (перепеваемым текстом) и бытованием его в культуре, которое — в свою очередь — оформляется как конфронтация голосов, являющая качество и формы существования текста в своей культуре.
Механизмы этих соотношений легче всего было бы рассмотреть через анализ «Культурных песен» — сравнительно раннего сборника (1974), еще отчетливо хранящего связь с техникой перепева, но уже артикулировавшего и специфические признаки поэтики Пригова. От техники перепева здесь унаследованы приемы «несуразности» и «неувязки», акцентируемые простым перечнем или же соположением автоматически сополагаемого, что ведет к мнимо-бесхитростному reductio ad absurdum (вспомним приговский вариант песни «Широка страна моя родная»). Но уже и здесь проявляется характерно-приговская стилистика «текста как такового» (концептуалистский аналог футуристического «слова как такового»): она оттесняет на задний план удовлетворение традиционного читательского ожидания, предполагающего видеть в произведении образ автора как субъекта-создателя текста и/или воспроизводимые в слове события жизни, но зато выдвигает в центр внимания сам текст как точку пересечения многих голосов и явленных в них позиций. Мне кажется, что здесь напрашивается параллель с мыслью Вяч. Иванова о тексте как о живом, «себе довлеющем и себе мыслящем космосе», излучающем «свое действие во все сферы духовного и душевного самоопределения» и взаимодействующем с «общим потоком жизни» [391].
(Кстати, и жанр перформанса, особенно в том виде, как он реализовался в позднем творчестве Пригова, позволяет вспомнить размышления Вяч. Иванова о «живой энергии театрального коллектива», призванной возродить соборность, являвшую себя в древнейшей обрядовой деятельности социума, — при условии, чтобы «зритель перестал быть только воспринимающим зрителем и действовал сам… Действующий и действенный коллектив можно назвать условно „хором“, не предрешая этим форм его действия» [392].)
Многоголосие в текстах Пригова с особой отчетливостью предстает именно в ранних «перепевах». Исходную позицию-голос в них представляет чаще всего прототекст, который оказывается точкой отсчета, иногда по-своему онтологизируемой (в частности, в интервью, данном Денису Иоффе в 2003 году, Пригов говорит о том, что в его произведениях эпистемологичность принимает видимость онтологичности [393]). Но, поскольку чаще всего этот «голос» — текст классика, навязываемый господствующими инстанциями культуры в качестве безусловной, непременной нормы и самой этой навязываемой ему функцией превращенный в свой собственный суррогат, прототекст как онтологически обоснованная данность вступает в явную конфронтацию с навязанным ему банализаторски-нормативным существованием в культуре. В качестве таких классиков — авторов нормативных текстов — выступают прежде всего и особенно хрестоматийно-обязательный Пушкин, а также Некрасов, Маяковский, Лермонтов, но на равных правах с ними и канонизированные в неофициальном интеллигентском сознании Ахматова или Пастернак. Таким образом, авторы, которых выбирает для перепева Пригов, — поэты, не обязательно поддерживаемые государственными структурами признания и глорификации, но в любом случае по той или иной причине авторитетные, пусть и в пространстве неофициальной культуры. Благодаря выявленной в «Культурных песнях» конфронтации прототекстов и их нормативизирующей функции этот ранний цикл Пригова становится полем многоаспектных смысловых испытаний.
Прежде всего речь идет об испытании самого прототекста на прочность сопротивления банализаторству и авторитетно шаблонизирующим «интерпретациям», иронически протискиваемым Приговым во все возможные смысловые «щели». Это испытание смехом и в целом комической ситуацией. В результате такого испытания истинно ценные прототексты, пусть даже неявно, всплывают у порога сознания читателя как ценности не хрестоматийно-пассивные, превращенные в свыше навязываемую норму, а как очищенные от шаблонизирующих напластований, как активные источники динамики и энергийности. (Любопытно было бы сопоставить судьбу в мире Пригова текстов Лермонтова, с одной стороны, и, к примеру, «Быть знаменитым некрасиво…» Б. Пастернака, — с другой.)
Но это включает и своего рода проверку самого принципа нормативности как такового, в результате чего текст классика «спускается с пьедестала» и испытывается на способность включиться в актуальный, «на равных» жизненный диалог в пространстве культуры.