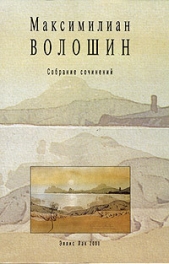Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов

Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов читать книгу онлайн
Эта книга — первый опыт междисциплинарного исследования творчества поэта, прозаика, художника, актера и теоретика искусства Дмитрия Александровича Пригова. Ее интрига обозначена в названии: по значимости своего воздействия на современную литературу и визуальные искусства Пригов был, несомненно, классиком — однако его творчество не поддается благостной культурной «канонизации» и требует для своей интерпретации новых подходов, которые и стремятся выработать авторы вошедших в книгу статей: филологи, философы, историки медиа, теоретики визуальной культуры, писатели… В сборник вошли работы авторов из пяти стран. Кроме того, в книге представлены записи нескольких интервью и интеллектуальных бесед с участием Пригова и наиболее важные, этапные для осмысления его творчества статьи исследователей московского концептуализма 1970–2000-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В итоге голос ребенка-нарратора, звучащий из загробья (эпитет «невостребованный» в русском бюрократическом языке вполне может быть применен к трупу) и противопоставляющий друг другу полюса дореволюционных, советских и постсоветских смыслов, именно благодаря множественности этих смыслов побуждает вспомнить об универсальной мифологеме жертвоприношения ребенка, которая лежала в основе не только финикийских ритуалов, но и библейской притчи об Аврааме и Исааке, знаменующей принципиальный перелом в мировой культуре, — отказ от принесения в жертву мальчика-первенца: «…не поднимай твоей руки на отрока и не делай над ним ничего… вот, позади овен…» (Быт., 22:12–13) [378]. А если вспомнить о том, что новозаветная экзегеза уже в первые десятилетия существования христианства толковала эту притчу как прообразование смерти и воскресения Христа (Евр., 11:19) [379], то смысловые горизонты мифологемы, лежащей в основе представленной в стихотворении ситуации, необыкновенно расширяются.
Литературные обработки этого мифа, особенно в начале XX века, вносили в ее смысловое поле дополнительные акценты. Особенно интересны в этом отношении творения Ф. К. Сологуба, который, как бы в диалоге с акцентированной Андреем Белым проблемой потенциального отцеубийства, выдвинул проблему потенциального мальчикоубийства в качестве едва ли не основной духовной опасности, грозящей человечеству возвращением в добиблейские времена (см. его роман «Мелкий бес»). Финальные слова текста Пригова («лежу невостребованный») иронически переносят акцент на бессмысленность этого жертвоприношения.
Возвращаясь к исходному сопоставлению со стихотворением Андрея Белого: аспект инфантильности в обоих случаях усиливает маргинальность положения «лирического я» — с той, однако, разницей, что финальная строка «Хулиганской песенки» Андрея Белого утверждает ницшеанский «героический пессимизм», хотя бы и на языке субкультуры, в то время как в финальных строках стихотворения Пригова, при всей его браваде и установке на черный юмор (подобной детским страшилкам), доминирует горькое чувство сострадания к погубленным поколениям и вместе с тем — ирония по отношению к идолотворческим устремлениям.
Что я имею в виду? Чтобы уточнить это, обратим внимание на «партнеров» «авторских „я“» двух сопоставляемых стихотворений. Партнер «авторского я» стихотворения Андрея Белого — «друг-скелет», который вместе с ним разыгрывает развеселую пляску смерти, творимую ритмом стихотворения. Они вместе смеются над ритуалом похорон и ведущей фигурой этого ритуала — священником (попом), создавая поистине карнавальное настроение с характерным для него взаимопревращением жизни и смерти. В стихотворении Пригова авторское «я», переживающее ситуацию потусторонности, — мальчонка, лишь в зоне потустороннего удостоившийся «беленькой матросочки» как зримого воплощения того, что для него было недостижимо в «реальной» социальной жизни, то есть действительно удостоившийся «потусторонней мечты» [380]. Но вместе с тем мальчик, спущенный в загробье, вдруг осознает, что другие знаки достоинства, которые украсили его отца (папаха и бурка) и которые были предметом мечтаний многих, подобных ему, для него уже недосягаемы.
Эти опорные детали здесь выступают в роли иронического опредмечивания стереотипов массового идолотворческого сознания. Сосредоточенность на механизмах порождения и функционирования стереотипов именно идолотворческого сознания характерна для большинства творений Пригова.
В связи с этой тенденцией, проявившейся в творениях и других концептуалистов, уместно вспомнить попытку Вяч. Иванова описать — практически одновременно с К. Г. Юнгом — механизмы деятельности коллективного бессознательного [381]. Иванов сосредоточился на двух формах его языкового проявления: мифотворческой и идолотворческой.
Вяч. Иванов определил это различение как оппозицию принципов «соборности» и «легиона» [382]. Если в принципе соборности ему виделось рождение такой ситуации, когда слово каждого «находит отзвук во всех», «ибо все — одно Слово», которое «обитает со всеми и во всех звучит разно», но представляет собой «одно свободное согласие» [383], то состояние «легиона» ведущий теоретик символизма интерпретировал как «биологический рецидив животного коллектива в человечестве», как «воскресшее сознание муравейника» [384]. Опираясь на формулу Достоевского, Вяч. Иванов развернул ее в прогноз — на мой взгляд, весьма проницательный: «Скопление людей в единство посредством их обезличения должно развить коллективные центры сознания, как бы общий собирательный мозг, который не замедлит окружить себя сложнейшею и тончайшею нервною системой и воплотиться в подобие общественного зверя… Это будет вместе апофеозою организации, ибо зверем будет максимально организованное общество», в котором «даже сильнейшие умы… мыслят лишь функционально, являясь молекулами одного собирательного мозга… Их организация есть возврат в дочеловеческий период, высшая форма дочеловеческого природного организма» [385]. Если понимать архетипы и закономерности их трансформаций в поле культуры не по Юнгу, а по Вяч. Иванову и Кереньи, то мы сможем описать (вспомним формулировку М. Берга) «транскрипцию духовно-психоаналитических комплексов в пространство культуры» не столько как психологический, сколько как собственно культурный процесс.
Творения Пригова живут, как правило, обыгрыванием языковых оборотов, составляющих основной функциональный материал этого «собирательного мозга». Их можно было бы называть, как я это делала выше, стереотипами советского («совкового») сознания, если бы выбор такого определения не заключал в себе соблазна свести многообразие проявлений к одной — и уже достаточно банализованной — дефиниции. Тем не менее основной корпус языкового материала приговских творений в самом деле составляет то, что «стереотипизировалось», что переродилось в опустошенные формулы и концепты, структура которых имитирует структуры мифопоэтические. Собственно, эти опустошенные формулы являются результатом «вытеснения» архетипических смыслов.
Тексты Пригова вскрывают механизмы рождения и функционирования этих имитаций, то и дело создавая положения reductio ad absurdum, благодаря которым из-под груды манипулятивных напластований высвобождаются архетипические основы. В одном из своих ранних предуведомлений (1979) Пригов писал: «Стихи возникли на скрещении интонационных пластов лозунговой призывности и фамильярного окликания, которые типичны для нашей нынешней советской жизни настолько, что дальше и идти некуда» [386]. Год спустя он прокомментировал этот материал следующим образом: «…для внимательного прислушивателя в лозунгах, призывах, праздничных ликованиях, уличных сварах проступают архетипы заклинаний, экстазов, песнопений и т. п., структурообразующий пафос которых, прорастая сквозь нашу современность, неложен и жизнестоек» [387].
Согласно характеристике М. Н. Эпштейна:
…концепт Пригова — общее место множества стереотипов, блуждающих в массовом сознании, от идиллически благодушного «окрасивливания» родного пейзажа до пародийно сниженного пророчества Достоевского «красота спасет мир». Концептуализм как бы составляет азбуку этих стереотипов, снимая с них ореол творческого парения, высокого одушевления. При этом используются минимальные языковые средства, демонстрирующие оскудение и омертвление самого языка, вырожденного до формулировки ходовых понятий. Косноязычие оказывается инобытием велеречивости, обнажением ее сущностной пустоты [388].