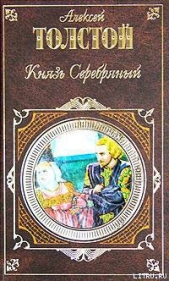Поэтика за чайным столом и другие разборы
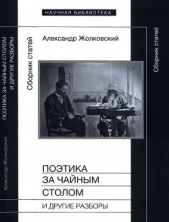
Поэтика за чайным столом и другие разборы читать книгу онлайн
Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну). Книга снабжена указателем имен и списком литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В эпоху мирной хрущевской революции молодежно-либеральная интеллигенция искренне надеялась на победу над догматиками в этом, а не ином мире, «при жизни этого поколения». Это кредо недавно иронически сформулировал Окуджава в песне «Кабинеты», где вот-вот ожидается переход власти — в литературе — в руки Беллы Ахмадулиной, Фазиля Искандера и других товарищей поэта по литературному оружию. Причем победа должна была наступить легко, сама по себе, карьера должна была сделаться путем не-делания ее, путем упования на всемогущество подлинных ценностей. Такова была оптимистическая атмосфера конца 1950-х — начала 1960-х гг. и даже эпохи подписанства — уже после свержения Хрущева, когда горстка «лучших людей» полагала, что их подписей достаточно для противостояния режиму. В рассказе этому соответствует настойчивое проведение мотива ‘претворение бескорыстных эстетических вкусов и идей в реальные успехи на доске’. Борьба если и ведется, то сугубо эстетическими, мирными, чистыми средствами; мат наступает сам по себе, «логично, как баховская кода»[508].
3.4. «Американская мечта»
Разумеется, все это лишь одна сторона медали. Рассказ полон иронии. Своего мата Г-М не объявляет, а золотые жетоны имеют фантастическую природу, так что концовка звучит амбивалентно. Ироническая амбивалентность вообще характерна для Аксенова. Так, в самом рассказе есть место, где подчеркнуто иронически дана молодежная романтика типа ранней аксеновской:
Гроссмейстер понял, что в этот весенний зеленый вечер одних только юношеских мифов ему не хватит. Все это верно, в мире бродят славные дурачки — юнги Билли, ковбои Гарри, красавицы Мери и Нелли, и бригантина подымает паруса[509], но наступает момент, когда вы чувствуете опасную и реальную близость черного коня на поле b4.
Иронические вариации на собственные темы есть и в других вещах Аксенова.
Например, в «Затоваренной бочкотаре» (1968) «рафинированный интеллигент Дрожжинин», с его полным незнанием окружающей жизни и полным знанием о Халигалии, где он никогда не был, с его безукоризненным англичанством (выражающимся в трубке, щеточке усов, двух твидовых костюмах и т. п.) и «подспудными надеждами на дворянское происхождение»[510], выглядит пародией на Г-М. Тем более что, подобно Г-М с его диоровским галстуком, он полон горделивой скромности: «мало кто догадывался, а практически никто не догадывался, что сухощавый джентльмен в строгой серой (коричневой) тройке…»[511]
При этом Дрожжинину противостоят сразу три Г.О.-подобных персонажа.
Это, во-первых, «военный моряк Шустиков Глеб», поклонник легендарного римлянина Муция Сцеволы, понимающий преданность Науке как битву с Лженаукой и ее империалистическими прихвостнями, в «агрессивные хавальники» которых он вместе с Муцием Сцеволой сует горящую руку (опять рука — вспомним татуированные кулаки Г. О.). Во-вторых, это милейший Володька Телескопов, который в отличие от Дрожжинина реально был в Халигалии и даже вступал в «платонические» связи с тамошними красотками («когда теряли контроль над собой»). И, в-третьих, нестрашный доброхот-доносчик старик Моченкин (ср. эсэсовцев в «Победе»).
Таким образом, «Затоваренная бочкотара» как бы воспроизводит ситуацию «Победы», подавая ее в менее конфликтном, сказочно-ироническом ключе.
Еще одна красноречивая параллель — совсем коротенький и малоизвестный рассказ «Мечта таксиста» (см.: Аксенов 1970).
Его герой мечтает когда-нибудь прокатить, может быть, до самых Сочей, сказочно богатого «Ваню-золотишника» — рабочего-контрабандиста с золотых (!) приисков. И вот он встречает его, только тот не при деньгах, вконец обтрепан и беспомощен. Таксист возит его за свой счет, кормит, поит, «укладывает на главную койку» и, наконец, так формулирует свою мечту: «Ведь мне <…> от него никаких бешеных денег не нужно <…> Мне важно, чтоб он был, Ваня-мой-золотишник, чтоб существовал в природе».
Невольно вспоминаются такие афоризмы Остапа Бендера, как «Я вижу, вы бескорыстно любите деньги»; «Я идейный борец за денежные знаки»; «Нет тех маленьких золотых кружочков, кои я так люблю» и т. п. Параллель эта вполне законна, особенно если учесть сказанное выше о Гонконге, alias Рио-де-Жанейро — «хрустальной мечте» детства Остапа Бендера, аксеновскую игру с советскими и иными клише a la Ильф и Петров, кратковременное гроссмейстерство Остапа и, главное, роль его образа в формировании неофициальной идеологии ряда поколений советской интеллигенции. Остроумный миллионер-одиночка, на которого навалился класс-гегемон, по сути дела, был гиперболизированным представителем интересов нормальной человеческой личности, попавшей под пресс советского режима. За мировой тоской великого комбинатора по белым штанам и Рио-де-Жанейро скрывалось простое желание доступа, даже для не-членов профсоюза, к тарелке супа, кружке пива и автомобильным запчастям — и свободы зубоскалить без ограничений. Вот почему и мечта таксиста о Ване-золотишнике звучит с такой трогательной, хотя и иронической, серьезностью. Хрустальная мечта Аксенова и его/нашего поколения — это некий ‘идеальный материализм’, ‘чистый капитализм’, ‘духовная любовь к импортным шмоткам’, надежда на магическую способность принципа материальной заинтересованности привести к торжеству добра, справедливости и всеобщего счастья.
В «По беде» этот ‘американский’ идеал выражен с особой тонкостью. Равновесие между возможными противоположными прочтениями парадокса хорошо выверено. Кто такой Г-М — нервная художественная натура или трусливый приспособленец и потребитель красивой жизни? Аскет, сосредоточенный на скрытых духовных ценностях, или высокомерный представитель советской элиты? Мотивировка модернистских приемов или супермен с человеческим лицом? Вторые члены этих пар неизбежно роднят Г-М с его оппонентом — Г. О. Это наводит на мысль, что где-то на абстрактном уровне Аксенова занимает некий единый архигерой — идеалист и крепкий парень одновременно, рафинированный интеллигент, он же военный моряк, — черты которого по-разному распределяются между персонажами реальных произведений. Оригинальное воплощение одного из вариантов этой сквозной темы делает рассмотренную нами изящную миниатюру 1965 г. подлинной победой автора — без кавычек и преувеличений.
Фазиль-американец[512]
Фазиль Искандер — признанный мастер сюжетного повествования, и одним из лучших образцов его искусства является рассказ «Пиры Валтасара» (далее ПВ), составляющий главу 8 романа «Сандро из Чегема». Некоторые ключи к этому маленькому шедевру я попытался подобрать, рассмотрев его как обращение вальтер-скоттовского топоса взаимодействия рядового человека с исторической фигурой, в частности — мотива их зрительного контакта (см.: Жолковский 2001). Обращение это, причем в диаметральную противоположность, состоит в том, что если у Скотта и Пушкина знакомство успешно осуществляется, а у Толстого так или иначе срывается, то герой ПВ, жаждавший близости к Сталину, в кульминационный момент сам уклоняется от намечающегося узнавания.
Поеживаясь под недоверчивым взглядом вождя, дядя Сандро сначала лишь смутно чует опасность обретения «знакомого на троне»[513], а на обратном пути с правительственного банкета, соображает, в чем дело, неожиданно вспомнив предыдущую встречу, случившуюся на горной дороге недалеко от Чегема три десятка лет назад, когда он был еще мальчиком. Обе сцены — на банкете 1935 г. и около 1905 г. (период большевистских «эксов») — выдержаны в тонах напряженного зрительного противостояния, но к визуальному аспекту и общей вальтер-скоттовской парадигме (а также к инвариантной у Искандера взаимной пантомимической игре персонажей[514]) структурные секреты ПВ, по-видимому, не сводятся. Еще один из них — это изощренная игра со временем, повествовательным и историческим, возможно, навеянная поэтикой американской новеллы.