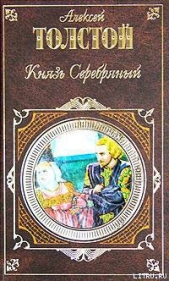Поэтика за чайным столом и другие разборы
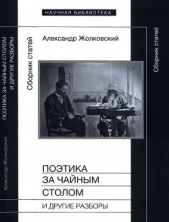
Поэтика за чайным столом и другие разборы читать книгу онлайн
Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну). Книга снабжена указателем имен и списком литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При первом же знакомстве он, вопреки протестам Цинцинната (повторяя жест лужинской тети, ср. примеч. 12), щупает шею героя: «Только ужасно она у вас тоненькая…» (гл. 10). Далее он демонстрирует свою физическую силу («Мсье Пьер закатал свой правый рукав. Мелькнула татуировка [!] <…> мышца переливалась, как толстое круглое животное», гл. 10). Проигрывая, он злится, а запах его потных ног мешает Цинциннату дышать (гл. 13; ср. роль запахов в «Защите…» и Г-М, которому в игре с Г. О. мерещится запах хлорки, а в момент воображаемой казни становится «трудно дышать»).
Мотивом казни, отсутствующим в «Защите…», «Победа», по-видимому, также обязана «Приглашению…» (гл. 22). В обоих случаях героя ведут под звуки оркестра, слышащиеся в отдалении и/или пропадающие; казнь носит публичный характер (упоминается «толпа») и включает момент восхождения на помост.
Как и в «Защите…» и «Победе», герой здесь молчалив, погружен в собственный мир и страдает от постоянного нарушения privacy. Во время игры с мсье Пьером он не произносит ни слова, но явно играет гораздо лучше и выигрывает, о чем мы узнаем из многократных просьб партнера вернуть ходы[499]. Эта победа Цинцинната (как и «победа» Г-М) демонстрирует превосходство героя над окружением, предвещающее его финальное торжество. Другим предвестием — по линии ухода от/отмены реальности является двойственность героя:
словно одной стороной своего существа он неуловимо переходил в другую плоскость, как вся сложность древесной листвы переходит из тени в блеск [!], так что не разберешь, где начинается погружение в трепет другой стихии <…> Казалось <…> вот-вот <…> Цинциннат <…> проскользнет за кулису воздуха в какую-то воздушную световую щель (гл. 11).
Именно это и происходит в финале, когда Цинциннат удаляется с эшафота, «направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему». Игра тени и света, одновременное присутствие в земной и иной жизни и переход за разделяющую их грань напоминают «Защиту…»[500], хотя прием двойной экспозиции здесь, в общем, не применяется.
2.3. Формула «Победы»
Попробуем зафиксировать интертекстуальный ход, ведущий к «Победе» от «Защиты…» и «Приглашения…».
Первый шаг состоит в оригинальном скрещении двух набоковских романов, возможность которого заложена в нетривиальном сходстве их тематики, структуры и поверхностных деталей и даже скрытых текстовых перекличках. В результате получается примерно следующая схема:
Скрытный, защищающий свое privacy художник-гроссмейстер (Лужин/Цинциннат), видящий весь мир сквозь шахматные очки (метод двойной экспозиции: черные/белые квадраты, «угрозы», повторение ходов, матовое стекло, мат), играет с болтливым, навязчивым, пошлым, но всесильным в этой жизни, физически сильным, татуированным противником (мсье Пьером). Герой выигрывает в шахматы, но проигрывает в реальной жизни, которая кончается для него жизненным матом / казнью / сюрреальным бессмертием, а для мира — разрушением его как чисто театральной декорации.
На втором шаге происходит, казалось бы, незначительное, но в действительности решающее обращение этой схемы. Уравнение «шахматы = жизнь» прочитывается в обратном направлении. Не жизнь умерщвляется, подменяясь шахматными позициями (как у Лужина), а, наоборот, шахматы (в сознании Г-М) оживают, впуская весь мир. В согласии с этим меняется и концовка. Вместо безнадежного разлада между исходом для романтического героя и исходом для окружающего мира, герой и мир получают возможность мирного сосуществования в (сюр)реальности счастливого для обоих исхода «Победы».
Третий шаг — одевание этой конструкции в плоть важнейших структурных находок (незамеченного мата любителю; запоздалого мата гроссмейстеру; вручения золотого жетона), за чем следует разработка конкретной сюжетной, стилистической и словесной ткани текста.
На этом третьем шаге не исключена опора «Победы» на еще один интертекст — «Шахматную новеллу» («Schachnovelle») Стефана Цвейга. В иных, нежели у Аксенова и Набокова, комбинациях и функциях цвейговская новелла содержит многие знакомые нам элементы.
Шахматы сравниваются с книгой, поэзией, музыкой; они символизируют борьбу с всесильным гестапо и непосредственно помогают герою выжить в тюрьме; игра для удовольствия противопоставляется корыстной игре на победу; нахальный любитель навязывается играть с гроссмейстером, не умеет проигрывать по-джентльменски, похож на боксера, кричит «Мат!»; талантливый шахматист почти сходит с ума во время игры и приходит в себя в больнице; и, наконец, развязка держится на ошибочном объявлении мата, якобы поставленного чемпиону мира безвестным претендентом[501].
Не менее существенны и отличия. В «Шахматной новелле» нет и следов набоковского модернизма, как отсутствует и притчеобразная краткость «Победы». Повествование очень растянуто (для рассказа); оно ведется совершенно традиционным рассказчиком; ни сумасшествие героя, ни треугольник ‘шахматы — искусство — жизнь’ не порождают соответствующей повествовательной техники типа двойной экспозиции; а обилие эпизодов и персонажей лишает рассказ символической прозрачности:
Сначала рассказчик играет с настырным любителем; затем они оба вместе с другими любителями играют против бездушного и корыстного чемпиона; далее к ним присоединяется гениальный любитель доктор Б., бывший узник гестапо, который сводит партию вничью; после чего он выигрывает у чемпиона один на один; наконец, он сдается чемпиону, неправильно объявив ему мат.
Дело даже не столько в громоздкости цвейговского сюжета, сколько в структурной и функциональной перестройке, претерпеваемой им, и прежде всего мотивом ошибочного мата, при предположительном использовании его на пути от «Защиты…» и «Приглашения…» к «Победе». Если у Аксенова читатель отождествляет себя с гроссмейстером, который воплощает благородное артистическое начало, является жертвой СС (!) и замалчивает ложность мата, то в новелле Цвейга наши симпатии на стороне претендента. Это он сидел в гестаповской тюрьме и он же великодушно отдает победу чемпиону, который, наоборот, публично разоблачает ошибку партнера.
Итак, ни отдельные «заимствования» из «Защиты…», «Приглашения…» и «Шахматной новеллы», ни даже их взаимоналожение не исчерпывают контуров аксеновского рассказа. Оригинальность «Победы» — в постановке модернистской техники на службу некой традиционной — (соц)реалистической? приключенческой? хемингуэевской? антитоталитарной? — борьбе за успех. Рассказ кончается переходом в гротескный план (подобно «Шинели» Гоголя и «Приглашению…» Набокова), но переход этот не столько отменяет реальность и демонстрирует трагическую несовместимость героя с миром, сколько создает пусть условный, иллюзорный, иронический, но все-таки хеппи-энд. Отсюда и обращение набоковского равенства (возможно, не без влияния Цвейга): если для Лужина и Цинцинната единственная реальность — иной свет, а здешняя жизнь — лишь его платоновская тень, то для Г-М шахматы — символ и часть реального мира и, более того, разлитой в нем гармонии[502]. Чтобы понять причины такой трансформации набоковского «оригинала», обратимся к культурному контексту, в котором создавалась, которому адресовалась и в котором осмыслялась «Победа».
3. Интерпретация
3.1. Who is who?
Действие рассказа происходит вроде бы на символизирующей Жизнь шахматной доске и в интертекстуальном литературном пространстве, но в то же время очевидным образом соотнесено с советской действительностью. Дело даже не в обилии реалистических деталей внешнего сюжета (купе, проводник, вагонные шахматы со следами от стаканов чая и отстающей байкой, Шахматный клуб на Гоголевском бульваре). Еще важнее четкая социально-культурная привязка конфликта и его участников.