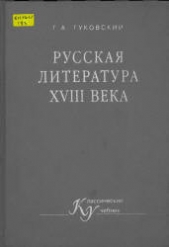Классическая русская литература в свете Христовой правды

Классическая русская литература в свете Христовой правды читать книгу онлайн
С чего мы начинаем? Первый вопрос, который нам надлежит исследовать — это питательная среда, из которой как раз произрастает этот цвет, — то благоуханный, то ядовитый, — называемый русской литературой. До этого, конечно, была большая литература русская, но она была, в основном, прицерковная.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Оставалось изъять Троцкого из той среды, где помнили его как Главковерха и победителя гражданской войны: Троцкого выслали и за 11 лет о нем подзабыли, а потом в Мексике убили (география Сталину не мешала).
Что касается Солженицына, то такого расчета совсем не было, тем более, что он объявил, что ни машины не водит, ни злачных мест не посещает – “несчастный случай” исключён.
Но надо сказать, что Солженицына и не собирались уничтожать; его просто выбросили и решили, что на Западе он будет менее опасен. Это было и умно и не дальновидно. Умно, потому что слишком понимали, насколько Запад подвержен моде: он мог выйти из моды, так как мода подогревалась борьбой здесь (все наблюдали это, как кино), а на Западе срок моды – 5 лет. Ровно через 5 лет была произнесена гарвардская речь (1978 год) и после чего популярность Солженицына неуклонно и неотвратимо шла на спад.
С другой стороны у Солженицына остался ничем не повреждённый нравственный авторитет, который, так или иначе, для оставшегося диссидентского движения был на высоте.
1980 год – последний год (можно сказать) Брежнева и к этому году кое-кого выслали, а кое-кого и посадили: за колючей проволокой оказались Огородников, Пореш и Глеб Якунин, которые уже не имели международного авторитета, и всё прошло без большого скандала.
За границу к Солженицыну вскоре последовала его жена с троими детьми и с его архивом, с которым он мог спокойно продолжать. Только первая часть “Гулага” была написана здесь (вышла на Западе), а вторая и третья были написаны за границей, да и первый том “Гулага” за границей дополнялся.
В 1975 году вышел на покой архиепископ Иоанн Шаховской и тут же разразился статьёй “Русский реализм”, где он не только сравнивает Солженицына с Достоевским и именно с Достоевским “Мертвого дома”, но и прямо называет его “разбойником, висящим одесную” (то есть ублажающим Христа распятого). (По сравнению с Антонием Блумом – это всё-таки как-то более прилично).
Иоанн Шаховской обращает внимание на то, что желчи, раздражения и такой дрожи ненависти в “Гулаге” нет; наоборот в нём есть этакая русская усмешечка, которая для Солженицына есть и форма плача о человеке (филологическое чутьё у Иоанна Шаховского было).
Второй том “Гулага” посвящён исключительно лагерному пребыванию. В первом томе есть главы, описывающие, откуда набирались заключённые (гл.2‑я: “История нашей канализации”); три главы посвящены советскому суду – “Закон‑ребёнок”, “Закон мужает” и “Закон созрел” (процессы над бывшими руководителями партии); “Караван невольников” – посвящен пересылкам. Второй том – содержание в тюрьмах и лагерях.
Третий том “Гулага” – описывает лагеря после Сталина: “Когда в зоне пылает земля” – о лагерных восстаниях; “Меняем судьбу” – о лагерных побегах; “Сорок дней Кенгира” (Кенгирское восстание – 1955 года); “Ссылка народов” и “Мужичья чума” – о коллективизации и ссылках 1946, 1949 и 1952 годов.
В третьем томе Солженицын рассказывает и о себе как он жил в ссылке, и о пересмотре дела и даже о кратком времени своего фавора, когда он, выдвинутый на Ленинскую премию, посещал институт Права.
Во всяком случае, была написана такая историософская эпопея: по ее характеру, по стилю, по тону - некоторые сравнивали ее с “Житием протопопа Аввакума, им самим написанным”. Что-то, конечно, есть.
В Россию “Гулаг” провозился только контрабандой, но провозился; на Западе – это была чистейшей воды политика, то есть, давали деньги на издание этих вещей, но никто их там не читал. Покупали почти все, а читателей даже из русской эмиграции наберется 15-20 человек и первый из них – Иоанн Шаховской.
Но издание “Гулага” было крупным международным событием; “Гулаг” – это приговор всей системе; и приговор читался так, что чем гулять на той свободе, лучше было сидеть в лагере. Солженицын пишет: “Чем хорош лагерь? Прежде всего, тем, что на него идеология, так сказать, тоталитарного режима не простирается, что, претендуя на твой труд и на твоё тело до изнеможения, лагерь не трогает твоей души”.
(Кроме злосчастных времён Беломорканала и, затем, Волгоканала, то есть 1928-1930 годов. Идеология Беломорканала не только у Солженицына, но и в лагерном фольклоре: Колька Ширмач из одесского фольклора, крупный карманник, а в лагере – крупный начальник, то есть “он держит разные бумаги и на груди ударника значок”; отказывается от побега, так как говорит, что “я понял здесь жизнь новую другую, которую дал Беломорканал”. Когда об этом узнали в воровской организации, то они выразились так, что “у нас – жулья суровые законы и по законам этим мы живём и если Колька честь свою уронит, мы Ширмача попробуем пером. И рано утром зорькою бубновой не стало больше Кольки Ширмача”).
В чем видит Солженицын громадное преимущество лагерного бытия? – в том, что в нём нет собраний, где принимаются коллективные резолюции, типа “требуем! и не позволим!, то есть, Солженицын живёт представлениями довоенными. Потому что в конце 70-х, конечно, было несколько не так.
Солженицын видит преимущество лагеря и в том, что много времени: не надо бегать, не надо зарабатывать кусок хлеба, так как он, какой никакой, но есть, бытие не определяет сознание. И поэтому даже по поводу пошлого советского боевика “Первая перчатка” он, вытащив оттуда словцо, обдумывает его в течение трёх суток, – когда бы он на воле имел бы столько времени? Словцо такое: “Важен результат, а результат не в вашу пользу”.
Откуда это взялось – погоня за результатом? И Солженицын делает вывод – с Петра I: с Петра I и началось – давай, давай, давай (на сваях, на костях строить Петербург), задать темпы, показать и так далее. Эта парадигма - одна из масок петровского режима - была немедленно взята и в советской действительности.
В лагерном бытии Солженицын видит преимущество и в том, что не надо ходить голосовать, выбирать.
Всё-таки главный протест Солженицына - против тоталитарного режима, то есть против насилия всяческого над его душой. Он не столько ратует за свободу политики (в этом смысле он очень похож на Максимилиана Волошина), сколько за свободу от политики. Поэтому, например, так же как голосование, так же его раздражает радио. Поэтому в “Матрёнином дворе” – “девица с плаката предлагала какие-то книги, но молчала, а радио не было – Матрёна его не держала”. (Радио – балаболка, которая отвлекает внимание, а нужно думать).
Последнее послесловие к “Гулагу” помечено Вермонтом 1976 года. А надо было жить дальше. Солженицыну в Америке было предоставлено всё (и земля, и особняк) за государственный счёт. Если президент Картер относился к нему “фифти-фифти” (то есть, и так и сяк), то Рейган считал себя его учеником – воспринял одну из его формулировок: “империя зла”.
Солженицын оборудовал в своем вермонтском замке одну из комнат под тюремную камеру и устраивал там раз в году “день зэка” - и это уже был театр для самого себя, театр, в котором ты и актёр и зритель.
“Красное колесо” стало писаться ещё здесь (примерно в 1969 году), ещё даже Твардовский, который скончался в 1971 году, застал первые главы, а дописывается всё там в Америке. Лучшая часть “Красного колеса” – это всё-таки “Октябрь 16-го”, которая представляет собой повествование из разросшихся очерков, но иногда чуть-чуть с вкрапленным сюжетом, но перемежается полными протоколами Думских заседаний с его авторскими комментариями. Эта форма оригинальная и она, в общем-то, отвечает его, так сказать, собственному заданию.
“Октябрь 16-го” назвать романом нельзя; это менее всего – эпопея; скорее всего, это такой жанр, которому названия не придумано. Но не надо забывать, что этот труд стал проникать в Россию в 1982 - 1983 годах; и если посмотреть на сцену покаяния обольщенной девушки, то можно сказать, что такой человек знает, что такое покаяние. “Октябрь 16-го” завершается сценой вне‑исторической, сценой покаяния.
Сюжет в “Октябрь 16-го” весьма прост: боевой полковник Воротынцев приезжает из действующей армии, проезжает через Москву, где у него осталась жена, и проезжает в Петроград для встречи с думскими деятелями. Сестра Воротынцева знакомит его с Шингарёвым. Учитывая, что положение плохое, полковник пытается как-то через Думу повлиять на настроение верхов, но вместо полу‑политической деятельности он связался с пересидевшей дамочкой 37-ми лет (ему - 40); завязал роман, поэтому ему уже не до политики; роман кое-как оборвал.