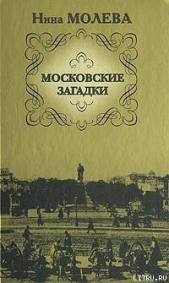Московские праздные дни
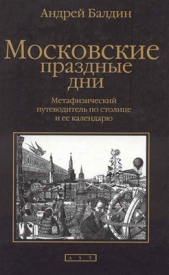
Московские праздные дни читать книгу онлайн
Литература, посвященная метафизике Москвы, начинается. Странно: метафизика, например, Петербурга — это уже целый корпус книг и эссе, особая часть которого — метафизическое краеведение. Между тем “петербурговедение” — слово ясное: знание города Петра; святого Петра; камня. А “москвоведение”? — знание Москвы, и только: имя города необъяснимо. Это как если бы в слове “астрономия” мы знали лишь значение второго корня. Получилась бы наука поименованья астр — красивая, японистая садоводческая дисциплина. Москвоведение — веденье неведомого, говорение о несказуемом, наука некой тайны. Вот почему странно, что метафизика до сих пор не прилагалась к нему. Книга Андрея Балдина “Московские праздные дни” рискует стать первой, стать, в самом деле, “А” и “Б” метафизического москвоведения. Не катехизисом, конечно, — слишком эссеистичен, индивидуален взгляд, и таких книг-взглядов должно быть только больше. Но ясно, что балдинский взгляд на предмет — из круга календаря — останется в такой литературе если не самым странным, то, пожалуй, самым трудным. Эта книга ведет читателя в одно из самых необычных путешествий по Москве - по кругу московских праздников, старых и новых, больших и малых, светских, церковных и народных. Праздничный календарь полон разнообразных сведений: об ее прошлом и настоящем, о характере, привычках и чудачествах ее жителей, об архитектуре и метафизике древнего города, об исторически сложившемся противостоянии Москвы и Петербурга и еще о многом, многом другом. В календаре, как в зеркале, отражается Москва. Порой перед этим зеркалом она себя приукрашивает: в календаре часто попадаются сказки, выдумки и мифы, сочиненные самими горожанами. От этого путешествие по московскому времени делается еще интереснее. Под москвоведческим углом зрения совершенно неожиданно высвечиваются некоторые аспекты творчества таких национальных гениев, как Пушкин и Толстой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Через несколько дней происходит его знаменитое хождение в народ.
В 9-ю пятницу по Пасхе, в Девятник, Пушкин переоделся в красную рубаху и пошел пешком в Святогорский монастырь. Здесь пел с нищими Лазаря, мешался с народом.
Ел апельсины, по шести штук кряду.
Все бы сошло за обыкновенное представление, коим он привык пугать здешнюю постную публику, если бы не Девятник, переходящий праздник преподобного Варлаама Хутынского.
Этот необычный праздник являл собою своего рода ключ, окрестные пространства открывающий.
О Девятнике и Варлааме Хутынском ему рассказывали святогорские монахи.
Память преподобного Варлаама отмечают несколько раз в году. В ноябре, в «яме» года, где нет ни просвета, ни даже малой надежды на просвет во времени, и только внутреннее сосредоточение помогает двигаться по дну календаря, — и теперь, в июне, после Троицы, в круге праздников переходящих.
Помещение святого в круг переходящих праздников означало его особые заслуги — образно говоря, во времяустроении, достижения в области совершенного расписания жизни.
Варлаам — один из самых почитаемых в Новгороде святых. Сын богатых родителей, он раздал имущество бедным, уединился в урочище Хутынь, в десяти верстах от Новгорода, где основал монастырь. На острове он проводил время в постах и молитве, чем снискал дар прозрения. Скончался в 1192 году, был похоронен в монастыре, им основанном.
Есть легенда, что спустя много лет после смерти святого пономарь того монастыря Тарасий, пришед однажды ночью в церковь Спаса Хутынского, имел видение. Гробница преподобного Варлаама открылась, святой вышел из нее и послал Тарасия на кровлю церкви.
Взобравшись на кровлю, Тарасий увидел, что озеро Ильмень встало дыбом, поднялось вертикально и готово затопить Новгород.
Есть икона середины XVI века, изображающая этот сюжет.
Дмитрий Лихачев в молодые годы, еще до войны, поднимался на кровлю храма — и испытал схожие ощущения. Водный горизонт вздулся и навис над ним горой; Ильмень был зол и темен и готов был пролиться на город, но некая невидимая стена удерживала его. Что это была за стена?
В истории этих видений интересен сам «прием» с опрокидыванием плоского озера.
Конечно, на новгородской глади любой подъем, пусть и на кровлю Спасской церкви, может смутить ум и преломить зрение.
Об этом и речь. Буквально: о переломе плоскости в пространство. Так, образно, и вместе с тем конфликтно приходит понятие об объеме, трех измерениях (всего-то).
Варлаам Хутынский учит пономаря Тарасия пространству.
Это сложный урок. Для плоско лежащего Новгорода пространство искусственно, внешне. Ему нужно учить, взламывая исходную ментальную плоскость по принципу ступени или плотины.
В данном контексте праздник Троицы выглядит как торжество плотины, инструмента большего по числу измерений по отношению к чухонской глади здешнего мира.
Плотина Троицы (в календаре) ставит вертикально пасхальную гладь, побуждая северян к расширению мысли, к росту ее в объем. Так понукал спящего пономаря Тарасия преподобный Варлаам, загоняя его ночью на крышу храма, дабы он узрел вертикальное строение мира.
Для возведения и удержания в своей голове пространства нужно усилие — пространство являет собой продукт творческого усилия. Светлая пасхальная плоскость, столь комфортная для нас, привычных к чтению, как будто не побуждает к такому усилию; но календарь, осознанно сверстанный, диктует свое. Майский (Георгиевский) подъем возводит пасхальную плоскость, точно лестницу духа, к Вознесению и Троице. Здесь, дойдя до высшей точки, у самых облаков, у летнего порога средневековая русская плоскость исчерпывает себя, обрывается, точно трамплин.
В этом пункте открывается новый простор. Время, до Троицы покойно текшее, находит на плотину праздника и возрастает в объем.
Здесь пункт Пушкина. В своем движении по планете года, по кругу праздников — поочередно в каждом открывая следующую грань, следующий звук, — он приблизился к месту, для себя важнейшему, к зениту.
Девятник, день Варлаама Хутынского, новгородского просветителя (пространств) стал для него днем метафизического испытания. В этот день поэту потребовалось поднять над собой купол (христианского) небосвода и одновременно внизу различить пропасть, по дну которой змеятся русалки и ходит языческое чудище Василиск. Между этой землей и этим небом, в полном летнем воздухе открывается русская толща — вся целиком, не различающая племен и наций, сословий и состояний.
В этот больший воздух выставлен русский трамплин, точка обозрения троическая.
Пушкин разбежался по бумажному трамплину и прыгнул в народ.
Вышел в свет.
*
Впоследствии это чувство полета неизбежно эволюционировало в чувство отрыва, отчленения от привычной — до-михайловской, до-годуновской матрицы, от прежнего помещения стиля, с которым его привычно связывали, но к которому теперь вернуться было уже невозможно. Приехав из ссылки в столицы, Пушкин столкнулся с непониманием его «многовоздушного» достижения, с отторжением открытой им в «Годунове» внутристраничной свободы. С этого момента и далее он ощущал это отторжение постоянно.
Даже мелочи ему напоминали об этом. Есть анекдот о том, как поэт, спустя два года после выхода из Михайловского, шел однажды в Петербурге по Невскому проспекту и вдруг в витрине книжной лавки Смирдина увидел картину Брюллова «Итальянское утро» (так тогда презентовали картины). Все мы помним эту картину: девушка, собирающая виноград. Самое замечательное в ней — воздух, трехмерие, предъявленное так ясно и просто впервые в русской живописи. Как будто в витрине открылась еще одна малая витрина, в которой выставлена была Италия. Пушкин остолбенел. Вот! — закричал он, — вот, смотрите! Я так же пишу стихи. Прохожие обернулись на витрину, но стихов в ней не увидели. А он все продолжал, в большом волнении: — Я так же стал писать стихи, и теперь все так пишут. Этот господин начал так писать картины, теперь все скоро будут так писать, вот увидите. Это же так просто.
Ничего не просто. «Вознесение» в пространство непросто, особенно в России, в которой оное пространство прежде полета должно быть выдумано, возведено в голове заново.
Полет, отрыв, то просто, что совсем не просто: все о Пушкине. Его разбег от Вознесения к Троице и старт с ее площадки вверх и в свет составляют узнаваемый пушкинский жест. Жест отмечен в календаре будто бы сам собой. Конец мая, начало июня — мы вспоминаем Пушкина, не только потому что он об эти дни родился. Это его сезон: насыщения летним пространством. Это просто его дни, нами самими без труда понимаемые как пушкинские. Всё праздники пространства.
Пушкин предстает классическим вознесенским (ренессансным) персонажем, фигура которого во всей полноте смыслов и обстоятельств олицетворяет поворотный пункт в календаре (русской культуры и истории): переход из весны в лето, в пространство и свет, большие по знаку — в пространство времени.
Иначе бы в том году он не уверовал, если бы не различил этой новой просторной сцены. Здесь могут вступить в силу все привычные представления о Пушкине как бунтаре и (большей частью) безбожнике, по крайней мере опасном насмешнике над сокровенными предметами. Но все это поздние перетолкования, новое уплощение Пушкина, а не сам он.
Положение памятника
Москва не могла пропустить в своем перманентном оформлении ключевой (между весной и летом, между плоскостью и пространством) пушкинский сюжет.
Свои противоречивые ощущения от этого революционного перехода она связывает прямо с Александром Сергеевичем и соответственно обустраивает в своих пределах характернейшее пушкинское место.
Столь же заметное и ответственное, как заметен и ответственен переход из весны в лето. Столь же яркое и показательное во всякой своей проекции, как сам поэт.