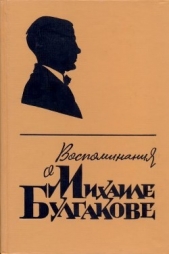О времени, о Булгакове и о себе
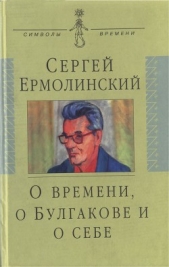
О времени, о Булгакове и о себе читать книгу онлайн
С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».
Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.
В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Интересно все-таки — суд или ОСО (Особое совещание)?
— Какой суд? Не знаю, как у вас, но меня вынести на суд нельзя.
— Ну, знаете, никому не известно, можно или нельзя.
— Не вижу разницы. Все равно лагерь.
— Не так плохо. Воздух. Работа. Письма. Посылки.
— Не благодушествуйте. Бывают такие лагеря…
— Бывают, бывают… Оставьте об этом… Лишь бы не началось опять…
— Не думаю.
— Ха! А те, кого вы назвали, могут потащить и на новое доследование, вам не приходило это в голову?
— Но я все, все, все признал!
— Ну и сидите спокойно.
— Бросьте эти разговоры! Черт знает что такое! Лучше я вам расскажу про блины в «Национале», где меня знал в лицо каждый официант…
— Плевал я на ваш «Националь», разве там блины? Николай Петрович, расскажите-ка, как было в ваши времена у Тестова?
— Но неужели все-таки лагерь? — возникал опять первый голос в какой-то немыслимой тоске.
— А вы, может, в ссылку захотели — в село Михайловское или в Пермь?
Все нехорошо захохотали.
И тут приоткрывалась передо мной истинная картина того, что пережили эти люди в стенах нашей комфортабельной тюрьмы, что с ними было и что с ними стало. Мне кажется, я понял наконец, что передо мной безнадежно несчастные люди, ибо они предали себя, подписав фантастические небылицы, возведя клевету не только на себя, но и на своих друзей, знакомых и даже приблизительно знакомых. Насколько же ужасен был нажим следствия, ежели они пошли на это? Страх охватил мою душу, но я не мог подробнее расспрашивать их об этом. Не того боялся, что буду бестактен по отношению к ним, а потому что боялся самого себя, своего страха.
Глубокой ночью растворилась тяжелая дверь нашей камеры. Но уже и до этого, когда лифт, заскрежетав, остановился явно на нашем этаже, все испуганно привскочили. Да, они больше всего боялись вызова на допрос. Но никого не потревожили, вызывали меня.
Наконец-то! Больше недели я ждал этого часа. Занервничав, подгоняемый зловещим шепотом надзирателя, я натягивал штаны и никак не мог утихомирить себя. Главное — не волноваться. Нет никаких причин для волнения. Мысленно я давно подготовил ответы на любой вопрос, и меня нельзя сбить с толку, запутать, потому что мне не нужно лгать. Я имею право возмутиться, даже повысить голос, на каком основании меня здесь держат? Размышляя таким образом, я шел впереди конвойного по пустынному, тишайшему коридору. У меня чуть сползали брюки, потому что ремешок был отобран еще в бане, я подтягивал их и по мере приближения к кабинету следователя окончательно успокоился. Твердость в голосе, без излишних выпадов, и достойная отповедь на беззаконное обращение со мной как с преступником, именно так я наметил свое поведение, но едва вошел, направившись к столу, как следователь сразу накинулся на меня:
— Куда прешь? Назад! К стенке!
Рукой он прикрыл тяжелую чернильницу, опасаясь, что я схвачу ее, что ли, и ударю его? А я, ошарашенный его окриком, отступил на два шага и опустился на стул, на котором сидел во время первого допроса.
— Встать! Не в гости пришел!
Я встал.
— Сесть!
Я сел.
— Встать!
Я встал.
— Обдумал, что будешь писать?
— А что я должен писать?
— Ах, е…..в рот, притворяется, что не понимает!
— Позвольте…
— Молчи, гад! Я твою поганую глотку заткну, шпион! Думаешь, здесь будут с тобой церемониться? Забыл, сволочь, что сказал великий пролетарский писатель Максим Горький? «Если враг не сдается, его уничтожают».
Далее на меня обрушилась отборная матерщина. Замарать ею чистый лист бумаги я не в силах. Знаю, конечно, что нынче в моде украшать прозу циничными словечками. Это как бы свидетельствует о так называемой раскованности писателя, бесстрашно фиксирующего язык своего современника. Тут, думаю, я мог бы перещеголять многих любителей эдакого городского фольклора, ибо находился едва ли не в центре его лабораторной обработки. Дело в том, что, очутившись среди уголовников и лагерников (об этом я еще расскажу), мне вплотную пришлось убедиться, что блатная лексика просочилась в наш быт именно оттуда, из лагерей, и, должно быть, первыми усвоили ее наши лубянские следователи. Они ее не только усвоили, но и, отработав, отточив, пустили в жизнь. Я, пожалуй, не устрашился бы воспользоваться некоторыми оборотами моего голубоглазого следователя, но обилие скверных слов удерживает меня делать это. Языковедам, надо полагать, придется покопаться и в этой грязи, а меня — увольте.
Разумеется, мне пришлось бы, зажав нос, попытаться восстановить весь словесный ужас допросов, свалившихся на меня, если бы это в какой-то мере прояснило суть предъявляемых мне обвинений. Напротив, происходила намеренная бессмыслица. Схема, намеченная следствием, как я сообразил потом, преследовала одну цель: сбить с толку, унизить, лишить воли к сопротивлению, не дать опомниться, испугать. Эта схема, видимо, была давно отштампована, особенно в применении к таким «преступникам», как я. Следователь действовал по шпаргалке, механически наливаясь гневом, возвышая голос, грозя. Затем, розовощекий, шел домой, пил чай в кругу семьи или отдыхал среди таких же, как он, молодцов. Их были сотни и сотни, этих маленьких садистов. Где и как их выделали, не пойму, но развращались они легко, наслаждаясь своей маленькой властью, и все самые низкие инстинкты подымались и росли в них…
Это я понял позже, а тогда чувствовал лишь, что меня загоняют в ловушку и мне надобно обороняться, потому что в каждом вопросе таились коварные хитрости. На самом деле все было грубее и проще.
Меня стали вызывать каждую ночь, иногда раньше, иногда позже, но продолжалось все то же самое — тот же крик, те же вопросы. Как-то заглянул полноватый человек в штатском, внимательно посмотрел на меня и спросил у вытянувшегося в струнку следователя:
— Ну, как дела?
— Молчит.
— Нехорошо, — покачал головой штатский. — Так, так, — вздохнул он. — Посмотрим, посмотрим. — И ушел.
— Из-за тебя одни неприятности, — буркнул следователь и уткнулся в бумаги. Но лишь только я попробовал что-то произнести, тут же оборвал меня новым матерным выкрутасом.
На третью или четвертую ночь, сделав строгое, официальное лицо, он произнес:
— Подойди к столу и распишись. Тебе предъявлено обвинение по статье 58-й. Прочти, прежде чем подписывать. Читать умеешь, интеллигент с высшим образованием. Видишь — пункт первый: измена родине и шпионаж. Далее — участие в контрреволюционном заговоре и антисоветская пропаганда.
— Но это же чистейший вздор!
— Что-о? Санкционировано прокурором. И это ты называешь вздором?
— Однако же на каком основании?
— Опять антисоветчина! Хочешь сказать, что у нас зря арестовывают?
— Я хочу сказать…
— К стене. Твои показания не нужны. Нам без них все известно. Но я дам тебе лист бумаги, и ты сам подробно ответишь на все вопросы. Назовешь сообщников, хотя мы их знаем и без тебя. Я облегчаю твою участь. Ясно?
— Нет. Я уже говорил и повторяю, мне нечего писать.
— Черт с тобой! Пропадай твоя засраная телега! Иди в камеру и подумай.
…………………..
Вышеозначенное многоточие обозначает, что я не могу восстанавливать ужасающее по цинизму сквернословие. А ничего другого, по сути, не было. Однако меня порядком издергали тупые еженощные сидения.
О, разумеется, то, что творили со мной, ничтожно по сравнению с тем, что видели эти стены. Надо ли об этом писать? Ведь очень много страшных свидетельств уже давно опубликовано, если не у нас, то за рубежом, и они стали известны всему миру. А в годы «оттепели» немало рукописей посыпалось к Твардовскому в «Новый мир», они лежали в сейфах редакции, ожидая своего часа. Потом исчезли, но, наверно, сохранились где-то в потемках, притаившись. Что я могу к ним добавить?
Без сомнения, я счастливчик, чудом спасшийся. Моя история — лишь слабая копия подлинно трагических судеб. И все-таки, преодолевая как тяжкий груз, я пишу, потому что в моем «деле» обнажились причины, важные не только для меня. Их не сразу открыли передо мной с бесстыдной откровенностью. Нужна была душеизматывающая подготовка, чтобы из меня можно было сделать все, что нужно. Поэтому и затянулось мое пребывание на Лубянке. Я еще долго ничего не понимал, теряя надежду, впадая в отчаяние, не видя выхода.