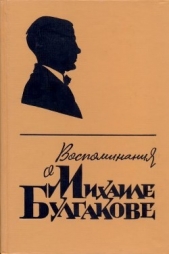О времени, о Булгакове и о себе
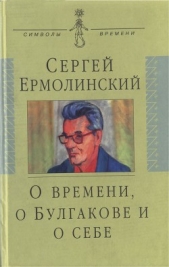
О времени, о Булгакове и о себе читать книгу онлайн
С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».
Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.
В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уже без нее я получил письмо из Киева. Мне написали, что в его родном городе начали реставрацию дома на Андреевском спуске, где жила когда-то семья Булгаковых («Дом Турбиных», куда стихийно тянутся, и не один уже год, толпы экскурсантов). Прошло еще немного времени, и весь Андреевский спуск преобразился. Все дома как будто родились заново, один краше другого. И во всей красе вновь воссияла церковь, построенная Растрелли! Впрочем, не следует преувеличивать. Делалось это в связи с подготовкой к празднованию 1500-летия Киева. Сообразили, что приедет множество зарубежных гостей и немалое количество их хлынет посмотреть на дом Булгакова. На доме была установлена мемориальная доска с барельефным портретом Миши и доска с указанием, что дом охраняется как памятник истории и культуры. Торжества в Киеве позволили вдруг осуществить все эти необыкновенные вещи! Но чудеса продолжались. Недавно я получил квитанцию киевской горсправки, присланную бескорыстными поклонниками Булгакова (а значит, моими друзьями), в которой сообщалось, что в районе Южной Борщаговки существует улица, названная его именем. Это новый жилой массив. Она проложена между улицей Семиренко и улицей Академика Королева, а проехать к ней можно на трамвае № 1 до конца и далее автобусом № 83. Там все еще перекопано, перевыворочено бульдозерами новостроек, но на углу уже имеется табличка: «Ул. Михаила Булгакова».
Я плохо знаю Киев и собрался было поехать, чтобы проверить, так ли это? Но вслед за тем меня уведомили, что эта новая улица названа не воображением поклонников, а постановлением Горисполкома с подписями и приложением печати за № 583 от 3 апреля 1981 года, то есть получилось, что как раз к 90-летию со дня его рождения. (Булгаков родился 14 мая 1891 года.) Фантастика?
Лена, помнишь, я рассказывал тебе сон? Мишу несут на руках как триумфатора, хотя он голый, в одной набедренной повязке, но лица у всех сияют от счастья. Я спросил у санитара: «Куда его несут?» — «Неужели не понимаешь? В Дом скорби». — «Я знаю, что это такое, но ему туда совсем не нужно. Он здоров». — «Он болен». Тут я вскрикиваю и ноги мои становятся каменными и прирастают к полу, как это бывает во сне. «Это ошибка! — вскрикиваю я. — Это опять, опять, опять ошибка!» — «Но-но, не болтать, — обрывают меня. — Он болен опасной болезнью. Не кипятись. Смотри, уже приближаются генералы, чинопочитаемые звездоносцы и лауреаты, в их руках испытанное лекарство». — «Какое лекарство?» — «Изволь, я не буду забивать тебе голову латинскими названиями и переведу по-русски: закруглять и не думать». — «Что-о? То есть, как это?» — «О боже мой, — раздается голос Главного санитара. — Ты, кажется, остался таким же дурачком, каким был». И все исчезает — я просыпаюсь в поту.
Ты помнишь, я рассказывал тебе об этом сне? Ты всегда серьезно относилась к снам, а тут, сердясь, сказала: «Плохо выдумал, видны белые швы сочинительства». Я никогда и ни на что не обижался на тебя, а теперь и подавно. Сочинительство, конечно, было, как всегда оно бывает, когда мы рассказываем сны. Но все равно, он был вещий, этот сон. Он говорил о том, как засуетятся вокруг Булгакова, как только он войдет в нашу литературу, — и придется выстроить стражу, чтобы не слишком много толковали о нем, начнут умалчивать, замалчивать, как это уже было, или приглаживать, «округлять»… Ах, многого ты не знаешь! А дело-то движется, вопреки всем «санитарам».
Наша комиссия добивается издания Полного собрания сочинений М. А. Булгакова, куда войдут все его сочинения — и те, которые не переиздавались с 1925 года, и те, которые не издавались никогда. Может, и вправду помогут «генералы», потому что предстоят немалые трудности. Планы издательств буквально забиты собраниями сочинений. Ведь нынче платят за них полным рублем, и кто только не лезет, не толкается, не работает локтями, как в метро в часы пик! Кого только не издают!.. И все же я убежден — пробьемся. Не уверен лишь в том, доживу ли сам до выхода первого тома?
«Друг мой милый, слышишь ли меня?..»
Урну ее захоронили на Новодевичьем кладбище, в его могиле. И теперь там выгравирована единая надпись:
Я служил ей всем, чем мог.
Мой неотягчающий долг.
1966–1981
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ТЮРЬМА И ССЫЛКА
В моих записках о Булгакове упомянуто, что, назначенный после его смерти в булгаковскую комиссию при Союзе писателей, я проявлял «излишнюю активность, пытаясь добиться опубликования его произведений, хотя бы пьес, и что это ни к чему хорошему не привело». Начальники, коим надлежало отвечать за мою рукопись, вычеркнули этот абзац, опасаясь, как бы читатель не догадался, что я был арестован. Что верно, то верно — читатель нынче догадлив. Тем не менее я обязан (и не намеком) рассказать о том, как узнал изнанку нашего существования, а вместе с этим раскрылась передо мной суть так называемого булгаковского дела, которого не было, но которое существовало, как существует до сих пор…
История беспощадна, сколько ее ни фальсифицируй. На глазах летят в бездну страшные кумиры на глиняных ногах, еще вчера обожествляемые. Избави бог, я всегда был далеко от них. Цари того времени еще царствовали, когда меня схватили за шиворот. Не сразу разобравшись, а лишь по ходу следствия, постепенно, я понял, что поступили со мной правильно: преступления не было, ни за какую веревочку не схватишься, но был — дух. Вот именно дух, и от него чадило неотвратимым возмездием…
Дом не может стоять на трех ногах. Не будь слепым! Молись о тайне истолкования. Это, кажется, сказал апостол Павел.
Тяжело писать о себе. Слова, ворочаясь, падают пудовыми гирями.
В начале октября 1940 года я стал замечать, что возле моего дома в Мансуровском переулке прохаживается парочка — чаще всего он и она. Иногда они заходили, словно прячась, и в наш дворик. Я решил, что идет слежка за каким-то домом по соседству. Волна арестов тридцать седьмого — тридцать девятого годов чуть схлынула, но в городе было тревожно и нехорошо. Почти совсем исчезли «черные вороны». Днем по городу катили фургоны с надписью «Хлеб», хотя вместо хлеба, рассказывали, под такой вывеской перевозили арестованных. Впрочем, слухов стало чуть поменьше и спать можно было чуть поспокойнее…
Странно, что я забыл точную дату. Кажется, 29 октября мы с женой провели вечер у Шапошниковых [87], то есть по соседству, в Большом Левшинском. Возвращались около двух часов ночи. Парочка прогуливалась по другой стороне переулка, напротив нашего дома. «Гуляют, — сказал я, — и какой-то несчастный не подозревает, что вот уже месяц охотятся за ним». Эта картинка стала для нас привычной, и мы спокойно вошли в калитку. В голову не приходило, что этим несчастным был я.
Лишь только мы легли спать и погасили свет, как раздался резкий звонок и нетерпеливо забарабанили в дверь. И вот в нашу крохотную квартирку вдвинулись люди. У окон и двери тотчас встали конвойные, а человек в штатском пальто протянул мне бумагу: «Вы арестованы».
Позже я узнал, что ордер на мой арест был подписан вторым секретарем правления Союза писателей Петром Андреевичем Павленко [88]. В те беззаконные времена почему-то соблюдалась формальность, по которой член ССП мог быть арестован только по ордеру, «завизированному» одним из секретарей Правления. А еще позже мне стало известно, что Фадеев отказался дать свою подпись, заявив, что он знает меня и ручается за мою политическую благонадежность. Представитель органов безопасности (тогда НКВД) отнюдь не настаивал, вежливо откланялся и, пройдя приемную, вошел в соседний кабинет второго секретаря. Там нужная подпись была им тотчас получена и таким образом формальности соблюдены.