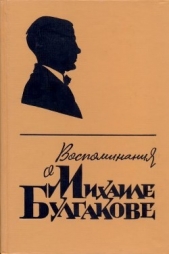О времени, о Булгакове и о себе
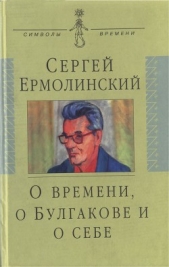
О времени, о Булгакове и о себе читать книгу онлайн
С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».
Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.
В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Машина работала медленно и, не торопясь, дожимала меня.
Следователь сообщал мне, что мои близкие друзья и знакомые подписали показания, нужные следствию, рассказывал, что вызывал мою жену и она призналась, что давно подозревала меня в связях с антисоветскими элементами. «Твоя жена настоящий советский человек, уж кто-кто, а она раскусила, что ты за тип».
Ничему этому я, конечно, не верил и требовал, чтобы мне предъявили письменные показания или дали очную ставку с их авторами.
— Ишь, чего захотел! — небесно улыбаясь, говорил следователь. — Вот они, здесь! — похлопывал он по горе папок, лежавших у него на столе, точно все они составляли мое «дело». — Впрочем, изволь, полюбуйся! — Он с торжеством достал из верхней тощей папки лист бумаги. — Подойди-ка. Узнаешь?
Это был знакомый мне машинописный лист из сценария «Машенька», который я писал вместе с Габриловичем.
— Что здесь было написано? «За родину! За великого Сталина!» Кем зачеркнуто и наверху написано: «За родину!»? Просто «За родину», без Сталина? Чья рука посягнула сделать это?
— Я зачеркнул, и я написал.
— Гадина! — Он сокрушенно покачал головой. — Признается!
— Но я могу объяснить…
— К стенке! — гаркнул он.
Тут опять надобно прибегнуть к многоточиям, но на этот раз они сопровождались гневом оскорбленного патриотизма. Мой голубоглазый следователь кричал, порозовев до ушей, стучал по столу. В дверь просунулась голова. Я увидел малиновые петлички с кубиками, как и у моего.
— Петя, — сказал человек по-домашнему, по-соседски, — когда будешь уходить, загляни ко мне. Я до утра. Клюет.
— Хорошо, Славочка. Успеха.
Дверь прикрылась, и опять продолжалась чуть приутихающая дробь многоточия.
После одного из допросов, на который меня вызвали чуть ли не под самое утро, я вернулся, когда мои сокамерники уже пили утренний чай. Я повалился на постель в какой-то прострации. Все примолкли. Потом кто-то сказал:
— Вам выдали очки, это хороший признак.
— Конечно! — бодро откликнулся чей-то голос. — И знаете, сегодня придет библиотекарь. Тут попадается Мамин-Сибиряк в издании «Нива» или «Тиль Уленшпигель». Выбирайте книгу потолще.
— Лучше всего спите. Мы разбудим, когда он придет. Они были на редкость деликатны. Разговаривали шепотом, потом улеглись на кровати, покуривая, а может быть, вздремнули или читали. Ко мне осторожно подсел мой старик.
— Вы не спите?
— Нет, нет, Николай Петрович.
— Били? — наклонившись к самому уху, шепотом спросил он.
— Ну, как это могло быть? Обычная ругань. И ничего не поймешь.
Киселев вздохнул.
— Отнюдь не собираюсь утешать вас, — сказал он, все так же склонившись ко мне. — Каждый из нас прошел то, что происходит с вами. Мы знаем, это только начало. Будет резкий поворот, и его надобно во что бы то ни стало предупредить.
— Что же я должен делать, по-вашему?
— Что делать? Бог мой! Вспомните Герцена, — жарко зашептал он. — Зверство, своеволие, разврат русского суда и полиции обрушиваются мученичеством на простого человека. Боятся не наказания, а судопроизводства, понимаете? То есть следствия, следствия! Не ошибетесь, если усугубите это высказывание столетней давности.
— Ну, и какой должно сделать из этого вывод?
— Бог мой! Поверьте мне, ваш приговор определен еще при оформлении ордера на арест. Теперь они хотят выжать из вас дополнительные сведения, авось появится что-нибудь новенькое, применительно к кругу ваших знакомых. Именно это может случиться. А нажим следствия бывает таким, что в полубезумии можно черт знает что наговорить. Подписывайте любое, что вам подсовывают.
— Но ведь я не итальянский, и не японский, и не еще какой-то шпион?!
— Чем нелепее, тем лучше.
— Но ведь мне тогда на законном основании влепят лет десять лагеря.
— Ни за что. Максимум — пять. Это по нашим временам наилегчайший срок. И вы спасены. Не покалечены, как многие, слишком поздно понявшие ошибку своего бессмысленного упорства.
— Я этого не понимаю, Николай Петрович.
— Никто из нас не понимал! — почти выкрикнул он и снова зашептал: — Оглянитесь вокруг. Неужели не видите, какой покой царит в нашей камере! Все самое страшное позади. И ведь можно было обойтись без этого страшного. Не повторяйте наших ошибок. Да-да, посмотрите, какой покой, какой покой… — повторил он и, справившись с одышкой, добавил: — Конечно, нельзя давать советы, но я искренне жалею вас.
— Нет-нет, тут что-то не так… Как можно оболгать себя, а может, и своих друзей заодно? — говорил я, не понимая, что нельзя говорить эти слова ему, этому несчастному старику. Я был младенец, я был дурачок и продолжал, горячась: — Да и разве можно жить, потеряв уважение к себе?!
— Еще и это поймете… Уважение к себе… Мертвые слова из другого мира… — бормотал он, вдруг сразу сникнув и отходя от меня.
Яуснул. И он расплылся, исчез, как кошмар, а не явь! Возникли снова и снова мои чарусские видения. Катер плыл по широчайшей реке. Я им командовал. Вокруг расположились мои праздничные гости. И сияющее многонебесье окружало нас.
Потом меня разбудили. Мы обедали. Потом приходил библиотекарь, человек в таком же черном халате, как те, кто оголял мою голову, фотографировал, брал отпечатки пальцев, но в руках он держал стопку книг. Все оживленно разбирали книги, норовя найти потолще. Потом нас выгоняли на прогулку. Мы шли кучкой в сопровождении двух конвойных, нас поднимали на лифте на самый верх. Мы оказывались на небольшой квадратной площадке, окруженной со всех сторон высоченным забором (должно быть, таких площадок было несколько). Мы вышагивали гуськом, молча, заложив руки назад, в одном неспешном ритме, как вангоговские обреченные арестанты. Внизу шумел город. Мы его не видели, над нами куском висело небо, уже зимнее, низкое, в сырой морозной мгле. Мы были напрочь отгорожены от живого мира, хотя он был рядом, гудел автомобильными гудками, но никто из нас его не видел, а внизу никто не подозревал, что на крыше самого пугающего и загадочного здания в Москве ходят люди, может быть, близкие, может быть, родные, вдруг исчезнувшие, может быть, навсегда…
День продолжался. Наступал вечер, и хотелось его оттянуть. Мною начинало овладевать тягостное ожидание вызова на допрос, такой же, как вчера, как позавчера, как все эти ночи.
Но меня опять не вызывали.
И утром, в дни своего дежурства, я нес парашу, уже умеючи опорожнял ее от зловонной мочи. Вернувшись в камеру, пил чай, толково распределив на порции свою пайку, и, улегшись, раскрыл расхлябанный томик в стертом «нивском» переплете, то был роман Данилевского, кажется о 12-м годе, и принялся читать, присоединившись к всеобщему «покою», о котором твердил мне мой старик.
В середине дня, тревожно всколыхнув всех, в камере появился надзиратель. Спросил по всем правилам, шепотом:
— На букву Е? Имя? Отчество? С вещами. Сейчас за тобой придут. — И ушел.
— Неужели на свободу? — кинулся ко мне мой старик. — Это всегда происходит днем. Запомните адрес, зайдите, расскажите… Неужели?.. — Он обнял меня, и голова его, вздрагивая, припадала к моему плечу. — Я желаю вам счастья… Но, боже мой, я пропаду, пропаду без вас… Ах, боже мой, не подлец ли я?.. Вы там скажите… Господи, будьте счастливы!.. Силы нужны, чувствую, что рухну… Ничего, ничего… Это нервы… Прощайте!..
Он плакал, и я прижимал его несчастную голову. Дверь отворилась с грохотом. Надзиратель крикнул:
— Выходи! Живо!
За спиной надзирателя стоял конвойный. Я натягивал пальто, и старик лихорадочно помогал мне. Остальные сбились в кучу у стола. Кто-то выкрикнул: «Прощайте!» — и я вышел в коридор.
Но меня вывели не на свободу, меня ждал фургон с надписью «Хлеб», и я очутился в Лефортове.
Железные балконы висели над гулкой пропастью, вдоль них тянулись одинаковые двери в камеры с глазком и квадратной кормушкой. Классически ржавый ключ отворил вход в мою одиночку, и дверь тотчас захлопнулась. Я оглядел свое новое жилище. Маленький стол и перед ним намертво ввинченный в каменный пол стул, точнее, одноногое сооружение, наверху которого было приделано круглое сиденьице. Койки я не увидел: она была поднята, прикреплена к стене и заперта на замок. Пока я оглядывался, за мной все время наблюдали в глазок. Я снял пальто, но было холодно, и я накинул его на плечи. Мой пенальчик измерялся четырьмя шагами. Он был сыроват, но вымыт и чист. Я немного размялся, похаживая взад-вперед, и подумал: «Я узник». Эта мысль показалась мне содержательной, но я не знал, чего еще мне надобно опасаться, как развернутся события дальше.