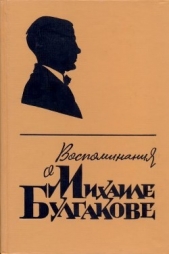О времени, о Булгакове и о себе
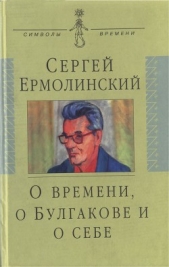
О времени, о Булгакове и о себе читать книгу онлайн
С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».
Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.
В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ах вот как! — изумился следователь. — И где же он теперь?
— Не знаю. Кажется, умер. — Понятно. Вы, если не ошибаюсь, проживали в Мансуровском переулке, дом номер девять, принадлежащем Сергею Сергеевичу Топленинову?
— Да. Вы же у меня были. Сергей Сергеевич — художник…
— Его, кажется, тоже высылали?
— Да, он был некоторое время в ссылке, но это до моего переезда в его дом.
— Ну и как он теперь себя чувствует?
— Хорошо. Он один из лучших макетчиков, выполняет заказы для Большого театра и для Художественного.
— Надо полагать, что он в связи с этим работает и по эскизам художника Дмитриева?
— Да. А что?
— Прекрасный художник Владимир Владимирович. Он живет в Ленинграде, насколько мне известно, но у него неприятность — арестовали жену. Вету… забыл отчество… Впрочем, это, надеюсь, не отразится на его работе?
— Недавно он награжден орденом «Знак Почета», — хмуро сказал я.
— Да-да. А профессора Каптерева вы знаете?
— Нет.
— Но как же так! Бываете в доме композитора Сергея Никифоровича Василенко и историка литературы Сергея Константиновича Шамбинаго…
— Я у него учился.
— Но его дочь Татьяна Сергеевна была замужем за профессором Каптеревым, а Каптерев досрочно освобожден из лагеря в связи с важным открытием в области вечной мерзлоты, хотя он, кажется, психиатр по специальности, и он уже в Москве.
— Дело в том, — сказал я, еще более хмурясь, — что Татьяна Сергеевна разошлась с Каптеревым.
— Не из-за Владимира ли Николаевича Долгорукого, бывшего князя, даже, так сказать, великого князя?
— Не знаю.
— Ах, Сергей Александрович, будто бы? Ведь он живет в Померанцевом переулке, в доме доктора медицины Василия Дмитриевича Шервинского, у которого снимают квартиру ваши друзья Леонтьевы и Арндты, а также и Владимир Николаевич. Он, кажется, литераторствует под фамилией Владимиров?
— Да.
— Прекрасный человек Владимир Николаевич Долгорукий! Однако что это мы пустились в семейные истории? А как с японцами?
— С какими японцами?
— Сергей Александрович! Помилуйте! Неужто вы забыли, что учились в Институте востоковедения на японском отделении и жили в общежитии бывшего Лазаревского института и там с вами находились японцы.
— Не японцы, а корейцы. Правда, один из них был из Токио, окончил Токийский университет, а другой — поэт.
— Поэт? Как интересно!
— Дело в том, — неизвестно почему заволновался я, — Институт востоковедения назывался тогда Институтом живых восточных языков, и там обучались мы, русские, разным языкам — арабскому, китайскому, персидскому, я — японскому, а вместе с нами учились студенты из стран Востока, у которых была другая программа, и они проходили курс русского языка. Затем из этого института образовалось два вуза — Институт востоковедения и Институт народов Востока.
— Нас такие подробности не интересуют. А как в дальнейшем развернулись ваши дружеские связи с корейцами японского происхождения?
— Никак не развернулись. Я получил комнату, уехал из общежития, институт не окончил, продолжая заниматься лишь в университете на факультете общественных наук. Я филолог.
— Филолог. Понятно. А японцы куда делись?
— Но ведь это было в начале двадцатых годов. Я давно потерял их из виду и не знаю, где они теперь.
— Значит, так: переключились на итальянцев?
— Переключился? Почему — переключился?
— Я говорю о вашей дружбе с представителем итальянской автомобильной фирмы «Фиат» господином Антонио Пиччином.
— Дружбы никакой не было и нет. Господин Пиччин женился на давней подруге моей жены, и я посчитал неприличным оборвать знакомство, как будто у нас боятся встречаться с иностранцами.
— Да-да… Смотря с какими иностранцами…
— Но в данном случае мое знакомство с Пиччином носило чисто формальный характер. Я могу дать объяснение и рассказать о всех встречах…
— Не торопитесь. У нас будет достаточно времени поговорить обо всем подробно. Подпишите протокол.
С этими словами он предложил мне подойти к столу и протянул листок.
— Вот тут подпишите. И вот тут. Очень хорошо. Советуем вам серьезно подумать о своем положении.
— О каком положении?!
— Тише. — Он посмотрел на меня, и я увидел его голубые бусинки: в них не было ни раздражения, ни гнева. Он механически выполнял то, что было ему предписано.
— А ведь вы нервничаете, — вдруг с удовольствием произнес он и вызвал конвойного.
Я шел по коридору, и на душе становилось все беспокойнее, как будто меня опутывали какой-то паутиной, неизвестно зачем и неизвестно почему. Казалось, так просто ответить на все вопросы, но я словно бы уперся в стену, попал в ловушку. Я тогда еще ничего не понимал. А меня вели коридорами, за которыми была каменная тишина, и привели не в камеру, а к парикмахеру.
Заспанный человек в черном халате посадил меня на стул и, вооружившись машинкой, прорезал мои волосы нулевой полосой. «Позвольте, я не осужденный, я под следствием». — «Помалкивай!» И машинка неровными полосами оголила мою голову.
Затем я очутился у фотографа. Меня сняли в профиль и в фас (как преступника), а после фотографа (и еще не опомнившегося) втолкнули в помещение, освещенное яркой настольной лампой. За столом сидел человек в очках, с совиными глазами, крючконосый. Без лишних слов он стал прикладывать кончики моих пальцев к мастике и оставлять следы от них на белом листе. Профессор этой черной магии действовал быстро, оборвав мой протест на полуслове: «Живей, возишься тут с вами с утра до ночи». У меня взяли отпечатки пальцев и увели.
Я вернулся, когда все спали. Никто не шевельнулся. Наверху горела одинокая яркая лампочка. Дверь захлопнулась за мной. Затем тотчас открылся глазок в двери: надзиратель удостоверился, что в камере продолжается спокойный сон и руки у всех аккуратно выложены поверх одеяла. Глазок закрылся, и тогда головы спящих арестантов приподнялись. Они посмотрели на меня. Мой преображенный вид никого не удивил. Кто-то проворчал: «Любят они проделывать все ночами. Ночные крысы». «Тсс, — отозвался кто-то. — Не хватает еще в карцер угодить». Затихли. Головы опустились на подушки.
Мне не спалось. Звездочка на потолке расплывалась, и затем угарное забытье постепенно овладело мною. Может быть, в этом полузабытьи я простонал. Старик, доедавший мою кашу, неслышно соскользнул со своей постели и подсел ко мне. Его тонкие, сухие пальцы тронули мой лоб.
— У вас жар, это бывает, — произнес он шепотом. — Это нервное. Он был с вами груб?
— Напротив, очень вежлив.
— А!.. — понимающе кивнул головой старик.
— Завтра он меня вызовет и я потребую объяснений, почему меня постригли, словно я уже осужден. Взяли отпечатки пальцев. Фотографировали…
— Завтра он вас не вызовет.
— То есть, как это?
— Примерно с недельку он продержит вас без вызова. Тсс!
Как зверь чует опасность, так этот старик угадывал приближение надзирателя к нашей двери. Он был уже в постели, когда на несколько секунд приоткрылся глазок. Затем шаги стали удаляться, и мы продолжили разговор.
— Никак не пойму, что происходит, — зашептал я, свесившись со своей койки, чтобы быть поближе к старику.
— Вижу, вернее, чувствую, что накручивают вокруг меня какое-то дело, а его и в помине нет.
— Может, есть, а может, нет, не в этом суть. С преступниками просто. Поймал — и разматывай веревочку. А что делать с такими, как я или, должно быть, вы?
— А ничего с нами не надо делать.
— Э нет. Сейчас не тридцать седьмой. Начинается новое. Только-только начинается.
— Что — начинается?
— Политические нашлепки — это по инерции. А главное — в уловлении духа. Нежелательного, необъяснимо настораживающего, то есть чуждого, понимаете? Его инстинктивное, мистическое уловление, но все той же, отметьте, государственной машиной.
— Но ведь это же абсурд, чертовщина какая-то!