Дочки-матери
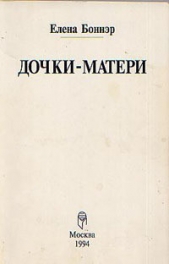
Дочки-матери читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Если б эта Веникас не позвонила, то, чего доброго, пришлось бы ехать за тобой в Баку. Или, может, сбежала бы? И сама нашла бы дорогу домой, а ?» Значит, папа все понял сам. Я ведь все время молчала.
Когда мы вошли, мама прямо вылетела нам навстречу и начала кричать на меня, как я смела сама уехать из лагеря, но папа не дал ей закончить фразу: «Руфа-джан, девочка тут не при чем. Ну, все мне работать надо». И ушел. Мама молчала, и, чтобы что-то сказать, я спросила: «Мне что — ехать обратно в лагерь?» Мама как-то грустно тихо ответила: «Как хочешь, можешь в лагерь, а можешь на дачу в Ильинку, там сейчас Батаня и Аня с Зорькой, а Егорка в Барвихе. А мне ехать надо, у меня уборочная». У мамы всегда весной была посевная, а осенью — уборочная. В лагерь мне не хотелось. Я чувствовала, что всем плохо сейчас — и маме, и папе, и мне, что я виновата, хотя виновата не я, а Люся Веникас, и ее видеть уж совсем не хотелось. «Я поеду к Батане, только у меня вещи в лагере». — «Вещи потом привезут. А других у тебя нет? » Мама не очень знала, что у меня есть, а чего нет. Этим обычно ведали то Нюра, то Эмма Давыдовна, то Дуся, то Батаня. Вещи у меня были. «Ну и поезжай, и возьми деньги». Мама протянула мне какие-то деньги — гораздо больше, чем нужно, чтобы доехать в Ильинку. «Тут много». — «Ничего».
Я собралась. И вошла к маме, чтобы сказать ей, что я еду. Она тоже складывала чемоданчик на уборочную. Мне очень хотелось есть, но у нее было такое расстроенно-отсутствующее лицо, что я ничего не сказала. Она меня поцеловала, я ее. И я пошла. Я зашла на четвертый этаж к Биночке и сказала, что в лагерь я не поеду. Я волновалась, как там Лена будет без меня. Биночка сказала, что ничего, что вечера уже сырые и лето кончается, и она завтра возьмет Лену в город. Потом она спросила:
«Хочешь есть?» — «Да». Биночка дала мне какую-то булочку и молока.
И я поехала — на трамвае до Казанского и потом на поезде — электричек еще не было. Я сидела на ступеньках в тамбуре, пока уже после Краскова контролер меня не прогнал. Все было очень хорошо и даже весело. Но я навсегда запомнила весь этот день — не очень хороший и совсем не веселый. День третьей встречи.
Была еще и четвертая, последняя. Весной 43-го санпоезд стоял в Ленинграде, и я сбегала домой. Соседка сказала, что мне было письмо, совсем на днях — фронтовой треугольник — она его не взяла, но просила почтальоншу сохранить, ведь я иногда появляюсь. Я побежала на почту. Во мне, как несколько раз до этого и много раз потом, вспыхнул лучик надежды — вдруг Севка жив, вдруг от него. На почте — старый почтамт на Почтамтской, теперь улице Союза связи (каким большим казался его зал в детстве!) — письмо очень быстро нашли. Получение старого письма, которое кто-то сохранил — у меня было несколько таких случаев — особая примета Ленинграда военных лет. Оно было не от Севки. От «него». Отвлеченно ласковое, какое-то абстрактное. Неудивительно, ведь и дочь я тоже была вроде как абстрактная. Он писал, что ранен, что в госпитале в Москве и что мечтает увидеть меня.
Попробуй отринь, попробуй вернись к тому детскому, хоть, может, и самому верному чувству, чувству своего предательства? Война, свои и чужие боли, потери, раненые, мамины лагерные письма. Уже нет Батани. Где-то папа — или его тоже нет? А тут «он» отец, раненый.
Через месяц, жарким, ветреным, очень пыльным днем (пыль так и стояла в воздухе, а песок, поднимаемый ветром, скрипел на зубах) мы разгрузили без малого семьсот тяжело- и легкораненых на Ярославском вокзале. Я выяснила у парней-лейтенантов, помощников военного коменданта вокзала, что простоим где-то на путях до утра. Я заехала за Инкой, и мы поехали в госпиталь. Куда-то далеко за Даниловскую. У входа дежурный пропустил меня только к главному врачу. Она сразу разрешила свидание, хотя сказала, что у них строже, чем в других госпиталях, потому что раненые у них необычные, неспокойные, черепно-мозговые. Я уже понимала, что это значит. И говорит:
«Они сейчас все в саду. Идите». Я вышла к Инке растерянная и говорю: «А как мы его найдем? Я совсем не уверена, что узнаю». Мы, озираясь, прошли несколько аллеек, и вдруг Инка схватила меня за руку: «Люська, смотри, это он», — прошептала она и показала на человека, сидящего на лавочке против небольшой клумбы с запыленными цветами. На что я ей тоже шепотом: «Откуда ты знаешь?» — «Да он же вылитый ты, только с усами». А человек этот на шепот поднял голову и вдруг встал и пошел к нам, чуть прихрамывая. Я вспомнила, что уже видела его с палкой, прихрамывающего и с усами — тогда в Чите, в самый первый раз.
Потом мы сидели с ним на той же самой лавочке, с которой он пошел к нам, а Инка бродила где-то по саду. Мы разговаривали. Верней, говорил он, он спрашивал, он за меня сам пытался отвечать на свои вопросы. Я узнала, что он после госпиталя, видимо, вернется в Баку. С армией покончено. Что у него там жена (или близкая женщина), зубной врач, что мама его умерла. Но о смерти Герцелии Андреевны»я уже знала до этой встречи.
В конце зимы наш поезд был в Баку, и я пыталась ее разыскать. Узнала адрес в адресном столе. И ее бывшие соседи сказали мне, что она умерла от дизентерии всего за несколько недель до моего приезда. Они спрашивали меня, кто я. Я сказала, что просто знакомая. Язык не повернулся сказать, что она моя бабушка. Бабушкой ведь всегда ощущала только Батаню. Это как папой — только папу. Да и сказать — внучка — тоже хороша, если от соседей узнаю о смерти бабушки. Опять я чувствовала себя виноватой. Ведь не станешь все и всем рассказывать, чтобы разобраться, когда и в чем кто виноват. Да и есть ли они вообще — виноватые?
А сейчас он говорил о себе, о том, как он плохо себя чувствует, как хорошо к нему относятся врачи, как он гордится, что я в армии, что после войны нам надо быть вместе. Я слушала, я старалась вникать, старалась сочувствовать. Старалась. Конечно, я повзрослела и от того детского абсолютного неприятия отошла. Конечно, я стала добрей ко всем, не только к нему. Но чужой, чужой, чужой! Как колеса, стучало у меня в голове — чужой! И я сказала, что у меня поезд, что мне надо спешить, так как вечером мы уже двигаемся из Москвы. Я соврала. Мы попрощались — хорошо, ласково, спокойно. Как будто действительно, он — отец, я — дочь, как будто возможно, что мы когда-нибудь будем вместе. Не знаю, чувствовал ли он это «как будто». Наверное, чувствовал. Я ушла. Недалеко от ворот меня ждала Инка. Вместе мы прошли мимо дежурного солдата в гимнастерке б/у и без погон — бывшего солдата. Он спросил: «Что, девчата, так скоро?», я про себя удивилась — мне-то казалось, что я долго была там, «у него».
Больше я его никогда не видела. Я написала ему несколько до отвращения формальных писем. Получала от него тоже какие-то формальные открытки. Уже после войны, когда вернулась мама, он написал, что его жена умерла, он болеет и чувствует себя очень одиноким. Я сказала маме: «А не взять ли его к нам? Или хотя бы мне к нему съездить?» И полушутя, полувсерьез добавила: «Вот и будет у меня и мама, и папа», — это я впервые про него сказала — «папа». А мама сразу ощерилась: «Или я — или он». На полном серьезе, так что на несколько дней замолчала. И я про себя думала: «Какая же она максималистка, ну прямо как невзрослая». А потом вялая наша переписка как-то заглохла. Жив? Не жив? Если умер, то когда? Где? Я ничего не знаю.
Этой осенью стала болеть Лена. То есть она всегда была больная. Но мы ходили по коридору, она приходила ко мне, мы готовили уроки и много вместе читали. Летом мы жили в нашей «сердечной» палате, ходили по лесу и валялись в траве. Теперь же она не выходила из своей комнаты и почти не вставала с постели, уроков уже не было. Когда я приходила и мы разговаривали, она часто закашливалась и начинала задыхаться. Так что говорить в основном стала я, а она только слушала. Но все равно она знала все, что происходило в ребячьем мире «Люкса», у нас дома и в школе. И хоть мы читали теперь по отдельности, но книги были общие. А интересы и отношение ко всему по-прежнему одинаковое. В это время мы стали читать Цингера «Занимательную ботанику», Ферсмана «Занимательную минералогию». «Занимательную физику» и «математику» Перельмана (может, они не так назывались) я читала позже. Я пыталась делать различные опыты, которые описывались в этих книгах. Обычно я делала опыт дома, и если он получался, то повторяла у Лены. Мне нравилось делать круговые надрезы на веточках и ждать, когда появятся беленькие корешки, а потом совсем не вовремя, не весной — маленькие листики.
























