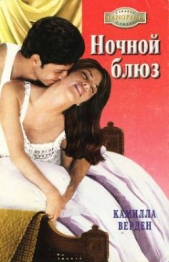Исповедь (СИ)

Исповедь (СИ) читать книгу онлайн
Более жестокую и несправедливую судьбу, чем та, которая была уготована Ларисе Гениуш, трудно себе и представить. За свою не очень продолжительную жизнь эта женщина изведала все: долгое мытарство на чужбине, нищенское существование на родинеу тюрьмы и лагеря, глухую стену непризнания и подозрительности уже в наше, послесталинское время. И за что? В чем была ее божеская и человеческая вина, лишившая ее общественного положения, соответствующего ее таланту, ее гражданской честности, ее человеческому достоинству, наконец?
Ныне я могу со всей определенностью сказать, что не было за ней решительно никакой вины.
Если, конечно, не считать виной ее неизбывную любовь к родной стороне и ее трудовому народу, его многовековой культуре, низведенной сталинизмом до уровня лагерного обслуживания, к древнему его языку, над которым далеко не сегодня нависла реальная угроза исчезновения. Но сегодня мы имеем возможность хотя бы говорить о том, побуждать общественность к действию, дабы не дать ему вовсе исчезнуть. А что могла молодая белорусская женщина, в канун большой войны очутившаяся на чужой земле, в узком кругу эмигрантов, земляков, студентов, таких же, как и она, страдальцев, изнывавших в тоске по утраченной родине? Естественно, что она попыталась писать, сочинять стихи на языке своих предков. Начались публикации в белорусских эмигрантских журналах, недюжинный ее талант был замечен, и, наверное, все в ее судьбе сложилось бы более-менее благополучно, если бы не война...
Мы теперь много и правильно говорим о последствиях прошлой войны в жизни нашего народа, о нашей героической борьбе с немецким фашизмом, на которую встал весь советский народ. Но много ли мы знаем о том, в каком положении оказались наши земляки, по разным причинам очутившиеся на той стороне фронта, в различных странах оккупированной Европы. По ряду причин большинство из них не принимало сталинского большевизма на их родине, но не могло принять оно и гитлеризм. Оказавшись между молотом и наковальней, эти люди были подвергнуты труднейшим испытаниям, некоторые из них этих испытаний не выдержали. После войны положение эмигрантов усугубилось еще и тем, что вина некоторых была распространена на всех, за некоторых ответили все. В первые же годы после победы они значительно пополнили подопустевшие за войну бесчисленные лагпункты знаменитого ГУЛАГа. Началось новое испытание новыми средствами, среди которых голод, холод, непосильные работы были, может быть, не самыми худшими. Худшим, несомненно, было лишение человеческой сущности, и в итоге полное расчеловечивание, физическое и моральное.
Лариса Гениуш выдержала все, пройдя все круги фашистско-сталинского ада. Настрадалась «под самую завязку», но ни в чем не уступила палачам. Что ей дало для этого силу, видно из ее воспоминаний — это все то, чем жив человекчто для каждого должно быть дороже жизни. Это любовь к родине, верность христианским истинам, высокое чувство человеческого достоинства. И еще для Ларисы Гениуш многое значила ее поэзия. В отличие от порабощенной, полуголодной, задавленной плоти ее дух свободно витал во времени и пространстве, будучи неподвластным ни фашистским гауляйтерам, ни сталинскому наркому Цанаве, ни всей их охранительно-лагерной своре. Стихи в лагерях она сочиняла украдкой, выучивала их наизусть, делясь только с самыми близкими. Иногда, впрочем, их передавали другим — даже в соседние мужские лагеря, где изнемогавшие узники нуждались в «духовных витаминах» не меньше, нем в хлебе насущном. Надежд публиковаться даже в отдаленном будущем решительно никаких не предвиделось, да и стихи эти не предназначались для печати. Они были криком души, проклятием и молитвой.
Последние годы своей трудной жизни Лариса Антоновна провела в низкой старой избушке под высокими деревьями в Зельвеу существовала на содержании мужа. Добрейший и интеллигентнейший доктор Гениуш, выпускник Карлова университета в Праге, до самой кончины работал дерматологом в районной больнице. Лариса Антоновна растила цветы и писала стихи, которые по-прежнему нигде не печатались. Жили бедно, пенсии им не полагалось, так как Гениуши числились людьми без гражданства. Зато каждый их шаг находился под неусыпным присмотром штатных и вольнонаемных стукачей, районного актива и литературоведов в штатском. Всякие личные контакты с внешним миром решительно пресекались, переписка перлюстрировалась. Воспоминания свои Лариса Антоновна писала тайком, тщательно хоронясь от стороннего взгляда. Хуже было с перепечаткой — стук машинки невозможно было утаить от соседей. Написанное и перепечатанное по частям передавала в разные руки с надеждой, что что-нибудь уцелеет, сохранится для будущего.
И вот теперь «Исповедь» публикуется.
Из этих созданных человеческим умом и страстью страниц читатель узнает об еще одной трудной жизни, проследит еще один путь в литературу и к человеческому достоинству. Что касается Ларисы Гениуш, то у нее эти два пути слились в один, по- существу, это был путь на Голгофу. Все пережитое на этом пути способствовало кристаллизации поэтического дара Ларисы Гениуш, к которому мы приобщаемся только теперь. Белорусские литературные журналы печатают большие подборки ее стихов, сборники их выходят в наших издательствах. И мы вынуждены констатировать, что талант такой пронзительной силы едва не прошел мимо благосклонного внимания довременного читателя. Хотя разве он первый? Литературы всех наших народов открывают ныне новые произведения некогда известных авторов, а также личности самих авторов — погибших в лагерях, расстрелянных в тюрьмах, казалось, навсегда изъятых из культурного обихода народов. Но вот они воскресают, хотя и с опозданием, доходят до человеческого сознания. И среди них волнующая «Исповедь» замечательной белорусской поэтессы Ларисы Гениуш.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На работу мы ходили обычно с Лизой, австрийской крестьянкой, которой за что-то дали 15 лет. Она плакала о своих детях и люто ненавидела мучителей и Элё Винклер вместе с ними. Работа была нелегкая, обычно что-нибудь мыть после ремонта или побелки, иногда стирать белье. Пользуясь случаем, мы стирали и что-нибудь свое, а из кухни приносили еду в камеру и делили всем поровну. Я узнала, что мой муж где-то в первой камере, и договорилась с обслугой из заключенных этой тайной тюрьмы, что они будут иногда вызывать его чистить картошку, дадут ему папироску, накормят. За это я стирала им заскорузлые рубашки сверх своей нормы. Был там в обслуге и заключенный молодой врач, он попросил нас с Лизой постирать сорочки заключенным, которые уже год сидят здесь в грязи. Сорочки были черные от толстого слоя грязи, но я смотрела на них сквозь слезы, напрасно стараясь отыскать сорочки мужа. Каково же было мое удивление, когда моя фрау Лиза отказалась мне помогать. Она, бедная, так ненавидела русских, что помочь даже заключенному русскому не могла, и долго пришлось мне объяснять ей судьбу несчастных. Помогала мне, но разницы между теми и другими никогда так и не поняла...
Однажды нас вызвали и переправили в тесном «черном вороне» куда-то в большую тюрьму, где было уже больше женщин — преимущественно немок... После трех дней пребывания там нас собрали, перешмонали, проверили документы и выпустили в большой зал. Я увидела своего мужа, он был худой до невозможности, с наголо обритой головой. Старался улыбаться, и это было еще страшнее. Когда нас выстроили во дворе, Грета Адам, красивая и молодая, крикнула во весь голос по-немецки: «Фрау Лариса, мы сюда еще вернемся, вернемся обязательно»... Перед отъездом из тюрьмы, кажется, это был Шапрон, обыскивали нас и наши вещи. И вот подошла моя очередь. Потерянные и снова отыскавшиеся чемоданы мои были набиты вещами... И среди них — прекрасная, новая, подаренная мне одной чешкой Библия. На тоненькой бумаге, изданная где-то в Америке. Она, как и Евангелие на белорусском языке, которое муж купил мне по моей просьбе сразу после нашей свадьбы, были моими настольными книгами. Принесли мне эту Библию еще в тюрьму в Вимперке, и я, забравшись на широченный подоконник зарешеченного оконца замковой башни и посматривая на лес, читала сквозь слезы эту Библию и все думала, вдруг выскочат на своих «джипах» из этого леса [избавители] и разнесут эту нечеловеческую шарашку на все четыре стороны. Но не было дела тем [...] до нашего горя, и оставались нам только Библия да страдания, человеческий путь Христа.
Вот и выволокли эту книжку, как что-то ядовитое, и не знали, что с ней делать... Тогда я начала потихоньку упрашивать солдат, чтобы все-таки оставили мне ее. Они что-то буркнули остервенело, но книгу, как я потом убедилась, оставили, и письма сыночка тоже.
Нас размещали на грузовых машинах и все старались, чтобы я и Джэнни Гречанка сели рядом со своими мужьями. Муж красивой заплаканной Джэнни, невысокий, но стройный симпатичный грек, стоял, бледный, в туфлях без шнурков, с зонтом, поддерживая одной рукой брюки, потому что пояс у него тоже забрали.
Повезли нас за Вену, где одиноко стоял целый состав под «живой товар». Подгоняли машины к дверям вагонов, клали помост и по нему загоняли заключенных... Вагоны были разделены густо переплетенной колючей проволокой на три части. Слева женщины (было нас тринадцать), справа мужчины — больше сорока (сидели просто друг на друге) и посредине конвоиры. В загородках были оставлены дырки, как для собаки. Нужно было опуститься на колени и так только, на животе, туда ползти. Поободрали мы и одежду, и головы. Загородки эти наглухо заплели. «Туалет» для нас сделали незамысловатый. Выдолбили дырку в полу вагона — и все. Для нас, европеек, это было мученье, и мы, несмотря на протесты конвоиров, закрывались, чем могли, или ждали ночи. Воду для питья подавали через проволоку, еду — тоже. Не было ни ложек, ни мисок. Рядом с вагоном насобирали наши опекуны грязных ржавых банок, видно, еще от прошлогодних консервов, из них мы и ели каждый день какую-то незамысловатую перловку. Мужчины обжигали себе губы, потому что из этих жестянок должны были поесть несколько человек. Воду давали, какую хотели, от нее чуть не рвало. Состав сопровождал врач и целая стая чекистов, поджарых, с хитрыми, сверлящими глазами, от которых было трудно укрыться. Они заходили и к нам в вагон и издевались, как могли, над бедными немочками, которых везли «к медведям». Когда отъезжали, начали меня душить рыдания, ужасные, нечеловеческие. Мне казалось, что уже никогда не увижу сына, думалось все, что попрут меня неведомо куда и замучат, а ребенок — один в широком безжалостном мире. Как раз подошел «доктор» и спрашивает у немок, почему я так плачу, уезжая «на родину», и они говорят о мальчике, а тот: «Ничего, бандитом будет». Это было сказано не просто так. «Доктор» был, очевидно, в курсе дел, потому что, как я потом узнала, они приложили все усилия, чтобы морально и физически уничтожить несчастного парня... В Мадьярщине поезд долго стоял, и когда я подняла заплаканное лицо, то встретилась с таким сочувственным, таким человечным взглядом какого-то мадьярского железнодорожника, что сердце мое окрепло. Элё Винклер вслух мечтала о том, что в Советах красивые шубы и она вернется домой именно в такой...
Так нас привезли во Львов. Я диву давалась: сколько людей! Наконец я увидела мужа, по голове и по лицу у него стекали струйки крови. Шел, как Христос, бледный и окровавленный, рядом щерили зубы остервенелые овчарки, которыми нас встречало «отечество». Завели в огромный хлев, где сортировали нас и разделяли. Там впервые увидела я кучу заключенных детей, таких же бледных и страшных, как мы, и гораздо несчастней, потому что дети.
Наконец нас пустили в зону лагеря. Мы были на Украине, и это чувствовалось. Украина заселяла тогда лагеря. Сначала осматривали мужчин. Когда дошла очередь до нас, я увидела на земле разбросанные, порванные листочки, такие знакомые. Я подняла их, это были письма Юрочки, которые отобрали у мужа... На этот раз я свою чешскую Библию спрятала под пальто, специально надетое, хоть было жарко, спрятала и письма сына, и так пока что все защитила... Врач, украинец, видно, из заключенных, проверил у нас глаза и руки, а какая-то неимоверно расфуфыренная, безобразная, как ночь, русская медсестра поискала у нас в голове нечисть. Потом мы очутились в гуще людей посреди двора, которым «родина» выдавала по миске каких-то щей, варенных на вонючих рыбьих костях. Миски переходили из рук в руки, а мы с мужем смотрели друг на друга и думали, что же будет дальше. Кто-то продавал папиросы по сто штук в пачке за вещи. Мои вещи были при мне, и я давай менять юбки на папиросы. Набежали люди, все просят закурить, так и раздали мы ту сотню, а мужу я выменяла другую. К нам все подходил, нахваливая советский суп, какой-то дородный немец в американской куртке на овчине, порядком замусоленной, правда. Был это муж Элё Винклер. Оказалось, что эти супруги, профессиональные шпионы, выдали Советам множество австрийцев, в том числе и Янайки с Джэнни. Греки эти учились в Вене и, видимо, в тяжелые времена понемногу подрабатывали спекуляцией. Так с ними и сошлись эти Винклеры. Однажды они пригласили бедных греков на ужин, обещая им знаменитое немецкое кушанье — запеченную гусыню. После войны из-за такой роскоши не побоялись греки поехать даже в советскую зону Вены. Шел дождь, рассказывала мне потом Джэнни, Янайки взял большой зонт, чтобы ничего не случилось с голубым плащиком и такой же шляпкой Джэнни. Вылезли они из трамвая, возле дома встретил их сам Винклер, весело и сердечно с ними поздоровался и, пока обцеловывал душистую ручку Джэнни, тихо подъехал советский «черный ворон»...
Был уже осенний, лунный вечер, а мы все сидели с мужем, держась за руки. Рядом с нами примостился какой-то украинец, которому дали 25 лет за то, что его жена-чешка, переселяясь с Украины, перевезла и его в мешке с сечкой. У каждого было свое горе. Мы переживали больше всего из-за того, что человек, которому мы доверили нашего сына, отдал его моим сестрам, вернувшимся из ссылки и жившим во Вроцлаве. Были это ненадежные, слабовольные девушки, и мы знали, что сыну несдобровать. У нас с мужем фактически не было никакой вины. Были членами Бел<орусского> ком<итета> самопомощи, но мы, как люди без гражданства, должны были быть зарегистрированы где-то, и какая разница — в русском «фэртрауэнштэле», или в белорусском комитете? Все иностранцы, начиная с евреев, были у немцев под строгим наблюдением, а я как поэтка, особенно. На восток мужа послали не по собственной воле, а по чешской мобилизации, да притом его выгнали из Белоруссии, запретив там даже практику. Чтобы сберечь мужу нервы и силы, я посоветовала ему не признаваться в участии в этом комитете. Пускай вся вина уж будет на мне, я все же была казначеем комитета. Так и решили. Мы еще не были осуждены, нас еще ждало следствие. Поздним вечером подошла наша очередь сдавать вещи и идти в бараки. Мы попрощались с мужем. Заплакали. Потом нас, женщин, повели в баню. А был там только душ. Воду пускал какой-то еврей. Почти вся администрация и этого лагеря была из евреев. Трудно только было разобраться, кто из них вольный, а кто заключенный. Вот этот еврей как стал поносить немцев да из мести за все освенцимы как начал пускать на нас то горячую, то холодную воду, что мы орали благим матом, аж пока я не выругала его как следует и не пригрозила, что найду на него управу. После бани я рассталась со своими немками, и меня повели в какой-то барак, пустили в коридор, назвав номер двери. Коридор был длинный. Я медленно подошла к одной из дверей, заглянула в глазок и прямо замерла! Протерла глаза и смотрю дальше, а там — как волшебная сказка! Сидят на своих узелочках чудесные украинские девушки, красивые, молоденькие, в вышитых блузочках, все с косами, и грустно что-то поют, комната большая, и много их, много, и такая чистота и святость исходит от них, что глаз не оторвать. У меня замерло сердце — о Украина, дорогая, родная, за что Тебе такая мука <...>.