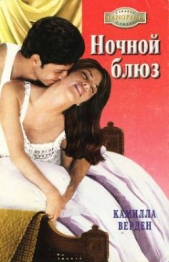Исповедь (СИ)

Исповедь (СИ) читать книгу онлайн
Более жестокую и несправедливую судьбу, чем та, которая была уготована Ларисе Гениуш, трудно себе и представить. За свою не очень продолжительную жизнь эта женщина изведала все: долгое мытарство на чужбине, нищенское существование на родинеу тюрьмы и лагеря, глухую стену непризнания и подозрительности уже в наше, послесталинское время. И за что? В чем была ее божеская и человеческая вина, лишившая ее общественного положения, соответствующего ее таланту, ее гражданской честности, ее человеческому достоинству, наконец?
Ныне я могу со всей определенностью сказать, что не было за ней решительно никакой вины.
Если, конечно, не считать виной ее неизбывную любовь к родной стороне и ее трудовому народу, его многовековой культуре, низведенной сталинизмом до уровня лагерного обслуживания, к древнему его языку, над которым далеко не сегодня нависла реальная угроза исчезновения. Но сегодня мы имеем возможность хотя бы говорить о том, побуждать общественность к действию, дабы не дать ему вовсе исчезнуть. А что могла молодая белорусская женщина, в канун большой войны очутившаяся на чужой земле, в узком кругу эмигрантов, земляков, студентов, таких же, как и она, страдальцев, изнывавших в тоске по утраченной родине? Естественно, что она попыталась писать, сочинять стихи на языке своих предков. Начались публикации в белорусских эмигрантских журналах, недюжинный ее талант был замечен, и, наверное, все в ее судьбе сложилось бы более-менее благополучно, если бы не война...
Мы теперь много и правильно говорим о последствиях прошлой войны в жизни нашего народа, о нашей героической борьбе с немецким фашизмом, на которую встал весь советский народ. Но много ли мы знаем о том, в каком положении оказались наши земляки, по разным причинам очутившиеся на той стороне фронта, в различных странах оккупированной Европы. По ряду причин большинство из них не принимало сталинского большевизма на их родине, но не могло принять оно и гитлеризм. Оказавшись между молотом и наковальней, эти люди были подвергнуты труднейшим испытаниям, некоторые из них этих испытаний не выдержали. После войны положение эмигрантов усугубилось еще и тем, что вина некоторых была распространена на всех, за некоторых ответили все. В первые же годы после победы они значительно пополнили подопустевшие за войну бесчисленные лагпункты знаменитого ГУЛАГа. Началось новое испытание новыми средствами, среди которых голод, холод, непосильные работы были, может быть, не самыми худшими. Худшим, несомненно, было лишение человеческой сущности, и в итоге полное расчеловечивание, физическое и моральное.
Лариса Гениуш выдержала все, пройдя все круги фашистско-сталинского ада. Настрадалась «под самую завязку», но ни в чем не уступила палачам. Что ей дало для этого силу, видно из ее воспоминаний — это все то, чем жив человекчто для каждого должно быть дороже жизни. Это любовь к родине, верность христианским истинам, высокое чувство человеческого достоинства. И еще для Ларисы Гениуш многое значила ее поэзия. В отличие от порабощенной, полуголодной, задавленной плоти ее дух свободно витал во времени и пространстве, будучи неподвластным ни фашистским гауляйтерам, ни сталинскому наркому Цанаве, ни всей их охранительно-лагерной своре. Стихи в лагерях она сочиняла украдкой, выучивала их наизусть, делясь только с самыми близкими. Иногда, впрочем, их передавали другим — даже в соседние мужские лагеря, где изнемогавшие узники нуждались в «духовных витаминах» не меньше, нем в хлебе насущном. Надежд публиковаться даже в отдаленном будущем решительно никаких не предвиделось, да и стихи эти не предназначались для печати. Они были криком души, проклятием и молитвой.
Последние годы своей трудной жизни Лариса Антоновна провела в низкой старой избушке под высокими деревьями в Зельвеу существовала на содержании мужа. Добрейший и интеллигентнейший доктор Гениуш, выпускник Карлова университета в Праге, до самой кончины работал дерматологом в районной больнице. Лариса Антоновна растила цветы и писала стихи, которые по-прежнему нигде не печатались. Жили бедно, пенсии им не полагалось, так как Гениуши числились людьми без гражданства. Зато каждый их шаг находился под неусыпным присмотром штатных и вольнонаемных стукачей, районного актива и литературоведов в штатском. Всякие личные контакты с внешним миром решительно пресекались, переписка перлюстрировалась. Воспоминания свои Лариса Антоновна писала тайком, тщательно хоронясь от стороннего взгляда. Хуже было с перепечаткой — стук машинки невозможно было утаить от соседей. Написанное и перепечатанное по частям передавала в разные руки с надеждой, что что-нибудь уцелеет, сохранится для будущего.
И вот теперь «Исповедь» публикуется.
Из этих созданных человеческим умом и страстью страниц читатель узнает об еще одной трудной жизни, проследит еще один путь в литературу и к человеческому достоинству. Что касается Ларисы Гениуш, то у нее эти два пути слились в один, по- существу, это был путь на Голгофу. Все пережитое на этом пути способствовало кристаллизации поэтического дара Ларисы Гениуш, к которому мы приобщаемся только теперь. Белорусские литературные журналы печатают большие подборки ее стихов, сборники их выходят в наших издательствах. И мы вынуждены констатировать, что талант такой пронзительной силы едва не прошел мимо благосклонного внимания довременного читателя. Хотя разве он первый? Литературы всех наших народов открывают ныне новые произведения некогда известных авторов, а также личности самих авторов — погибших в лагерях, расстрелянных в тюрьмах, казалось, навсегда изъятых из культурного обихода народов. Но вот они воскресают, хотя и с опозданием, доходят до человеческого сознания. И среди них волнующая «Исповедь» замечательной белорусской поэтессы Ларисы Гениуш.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Писеке никогда не было политзаключенных, потому и тюремная библиотека подбиралась для ограниченных преступников, нарушивших человеческие законы. Не могла я читать убогие, слащавые романы, написанные в прошлом веке, и однажды при встрече сказала об этом мужу. Судья, присутствовавший при нашем разговоре (таков закон), прислал мне в камеру несколько интереснейших книг, в том числе и томик стихов Бодлера. Мое внимание привлекли те, где говорилось об уходящем корабле и людях, уплывающих от своих навсегда. Не помню их дословно, но стихи эти пророчили мне судьбу нечеловечески страшную, беспощадно одинокую.
Наступил день, когда подлиза немка Ольга, несчастная девушка и стукач, пронюхала где-то у начальства, что меня отвезут, чтобы выдать русским. Это уже чувствовалось, и я была довольно спокойной.
Еще затемно пришел за нами конвой. У него был приказ вести нас с закованными руками, о чем нас предупредили, но почему-то сделать этого не смогли, хотя я и не протестовала... Шли мы, несли свои мешки, и я оступилась по дороге. Треснул пополам каблучок туфли. Так он там и остался, чехам на память о славянском гостеприимстве... Везли нас поездом, люди разглядывали нас порой безразлично, порой враждебно... Мы с мужем молчали. Конвоиры были как каменные, неприветливые. Когда муж попросился выйти и один из конвоиров его повел, другой, как-то по-человечески на меня взглянув, сказал, что так как я сильнее духом, чем мой муж, он хочет подготовить меня к тому, что нас везут выдавать Советам... Я не заплакала. Я просто окаменела, и прилив какой-то отчаянной храбрости охватил меня. Я чувствовала, что иду на неравный бой, я этот бой принимала без капельки страха в сердце. Только упорно отгоняла мысль о сыне, с этой болью я не справилась за всю мою жизнь... Понемногу подготовила мужа к этой жуткой неизбежности. Он побелел, но, как и я, в обморок не упал.
Так нас привезли в Прагу... А потом все происходило как обычно, только не приказали нам здесь догола раздеться и отвратительные пальцы надзирательницы не касались моих волос и тела, как это делалось в Писеке. Была это пражская полицейская тюрьма, куда нас отвезли, приспособленная для временного пребывания там воров и проституток. Конвой, передавая нас, дал нам подписать какую-то сложенную вдвое бумажку. Муж подписывать не согласился, захотел, чтобы ему показали, в чем дело. Оказывается, Прахотицкий «обэц» (сельсовет) этой бумажкой извещал нас, что именно он лишает нас чешского гражданства. Какое отношение к нам имели те Прахотицы, и сегодня не понимаю. Не помню, подписали мы это или нет, возможно, что подписали от какого-то тупого безразличия ко всему, что нас окружало...
В камере было запрещено плакать и сетовать. Все делалось, чтобы сохранить свои и чужие нервы и здоровье, потому что страдания только начинались... В полицейской тюрьме Праги мы пробыли месяц или полтора.
А самое худшее наступило скоро. Однажды утром мне объявили об отъезде. Это было как смертный приговор. Спрятав лицо в ладони, всей душой просила я Бога быть милосердным к моему ребенку и дать силы нам... Нас посадили в машину, которую заключенные называли Антоном, зеленую, плотно закрытую, и с еще несколькими парнями, которые, видимо, проштрафились в армии или сбежали из нее, отвезли в советский лагерь перемещения захваченных на Западе жертв. На деревянных воротах, за которыми краснели крикливыми надоедливыми лозунгами деревянные бараки, красовалась надпись «добро пожаловать»... На деревянных столах, ничем не накрытых, стояли железные миски с какими-то щами и лежал нарезанный хлеб. Люди были изнуренные острогами, бледные, кто-то ел, кто-то уже начинал хвалить «родину». Удовлетворенно и злорадно на нас посматривая, расхаживали «начальники», выполнявшие «план»...
Наконец подогнали машину с высокими бортами, усадили нас на дно. Спереди и сзади на досках, перекинутых через борта, сидели, направив на нас автоматы, по четыре «освободителя». Муж уткнулся мне в колени почти неживым от худобы и бледности лицом, и августовское солнце милосердными лучами гладило его поседевшую голову. «Золотая» Прага, наш дом, часть нашей жизни осталась далеко позади. Ну, а пока что нас отправляли в Вену. Дорога была длинная, людей навстречу попадалось мало. Из женщин кроме меня везли какую-то старушку, которую силой оторвали от детей, чешских граждан, а все остальные были довольно молодые мужчины. Они переглядывались, и чувствовалось, что готовы броситься на конвой и спасаться, но автоматы на груди и на плече и подмога в кабине почти исключали возможность сумасбродного риска. Во время обеда мы ели хлеб. Обед наших конвоиров отличался только тем, что они набивали себе живот хлебом по целой буханке, посыпая сахаром. Запить хлеб было нечем, сколько солдаты ни просили в чешских деревнях ведро, чтобы зачерпнуть воды, чехи им ведра не давали, были уже научены не на одном примере наглости и воровства. Грустно смотрели на нас чешские пограничники, как будто нас везли уже на эшафот, а не на родину, и молча провожали за свою границу.
Пустые, сжатые поля сменились виноградниками, и когда солнце начало садиться, мы приехали в Вену... Нас с мужем высадили в каком-то дворце или замке, кажется, в Нейвинерштат, где, помню, была на стене табличка с надписью, что некогда там в июне выпал снег. Спали мы в коридоре, и весьма неспокойный сон наш стерегли чуть поодаль вооруженные конвоиры. Назавтра была, помню, пятница, 13 августа, лил дождь. Уже с утра подъехала за нами грузовая машина. На одной из улиц в зелени сада стояла вилла, «добро пожаловать» над входом страшно и ясно свидетельствовало о ее тогдашних обитателях. В недра той виллы, в подземелье которой мучились сотни заключенных, бросили и нас.
В камере сидело несколько немок, в основном, кажется, по подозрению в шпионаже. По-немецки я немного говорила, поделилась с ними продуктами, начала знакомиться. Время уже закрыло от меня их лица, но ясно помню одну — артистку и профессиональную шпионку Элё Винклер. Была это довольно красивая бестия, лишенная всякой морали и этики. Немки сразу дали понять, что это шпион, советуя быть в камере осторожной. Все мы, как скот, валялись на полу, в грязи и коросте, и только у нее одной были кровать и перина, на которой она чаще всего валялась голая, если не вертелась перед стеклянным глазком в двери, раздражая своей наготой солдат-конвоиров. Она все рассказывала о своей любви к Советской власти и Сталину и о своем муже, профессиональном шпионе, который сидел где-то рядом. Это была какая-то отвратительная садистка. Заметив однажды, что я молюсь, начала преследовать меня ужасными выкриками, какими-то «молитвами», обращенными к черту. Носилась по камере и выла: «тойфэль, тойфэль», как сумасшедшая. В камеру заглядывали надзиратели и вызывали иногда на работу. Я всегда старалась вырваться хоть на пару часов, чтобы глотнуть воздуха, что-нибудь узнать о муже и по возможности помочь ему хоть чем-то. На второй день нашего пребывания в подземелье меня повели к начальству. Военный, видимо, высокого ранга встретил меня словами: «Вот и вы в наших руках». «Много радости это вам не принесет»,— ответила я продуманно и спокойно. Спросил у меня, что я думаю о Готвальде, который уже был вместо Бенеша президентом Чехословакии. Я не хотела высказываться о нем и только коротко заметила, что трудно быть президентом в тени Бенеша. На вопрос о чешской компартии ответила, что она многочисленна, но личностно ничего не стоит. Военный разговаривал со мною довольно доброжелательно, и я решилась спросить у него, что с нашими чемоданами, которые забрали и не вернули. Через несколько дней чемоданы откуда-то привезли, на удивление, в порядке. Говорили, что в этой тюрьме был центр МГБ на всю среднюю Европу. Здесь и осуждали людей преимущественно на 10, 15, а чаще всего на 25 лет. Нас почему-то не судили, это удовольствие оставили Минску.
Кормили нас густой перловкой и хлебом, утром черным кофе. Днем старалась спать, зато ночью... Над нами бесконечно допрашивали людей, и вопли избиваемых и цветистый российский мат не стихали до утра... Днем было тихо, только все крутилась зачем-то перед глазком дурная Винклер, да время от времени звонил трамвай, проходивший мимо серой виллы, и люди, проезжая мимо, наверно, даже не подозревали о наших мучениях.