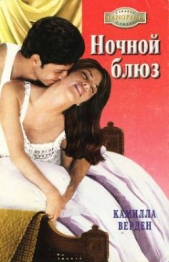Исповедь (СИ)

Исповедь (СИ) читать книгу онлайн
Более жестокую и несправедливую судьбу, чем та, которая была уготована Ларисе Гениуш, трудно себе и представить. За свою не очень продолжительную жизнь эта женщина изведала все: долгое мытарство на чужбине, нищенское существование на родинеу тюрьмы и лагеря, глухую стену непризнания и подозрительности уже в наше, послесталинское время. И за что? В чем была ее божеская и человеческая вина, лишившая ее общественного положения, соответствующего ее таланту, ее гражданской честности, ее человеческому достоинству, наконец?
Ныне я могу со всей определенностью сказать, что не было за ней решительно никакой вины.
Если, конечно, не считать виной ее неизбывную любовь к родной стороне и ее трудовому народу, его многовековой культуре, низведенной сталинизмом до уровня лагерного обслуживания, к древнему его языку, над которым далеко не сегодня нависла реальная угроза исчезновения. Но сегодня мы имеем возможность хотя бы говорить о том, побуждать общественность к действию, дабы не дать ему вовсе исчезнуть. А что могла молодая белорусская женщина, в канун большой войны очутившаяся на чужой земле, в узком кругу эмигрантов, земляков, студентов, таких же, как и она, страдальцев, изнывавших в тоске по утраченной родине? Естественно, что она попыталась писать, сочинять стихи на языке своих предков. Начались публикации в белорусских эмигрантских журналах, недюжинный ее талант был замечен, и, наверное, все в ее судьбе сложилось бы более-менее благополучно, если бы не война...
Мы теперь много и правильно говорим о последствиях прошлой войны в жизни нашего народа, о нашей героической борьбе с немецким фашизмом, на которую встал весь советский народ. Но много ли мы знаем о том, в каком положении оказались наши земляки, по разным причинам очутившиеся на той стороне фронта, в различных странах оккупированной Европы. По ряду причин большинство из них не принимало сталинского большевизма на их родине, но не могло принять оно и гитлеризм. Оказавшись между молотом и наковальней, эти люди были подвергнуты труднейшим испытаниям, некоторые из них этих испытаний не выдержали. После войны положение эмигрантов усугубилось еще и тем, что вина некоторых была распространена на всех, за некоторых ответили все. В первые же годы после победы они значительно пополнили подопустевшие за войну бесчисленные лагпункты знаменитого ГУЛАГа. Началось новое испытание новыми средствами, среди которых голод, холод, непосильные работы были, может быть, не самыми худшими. Худшим, несомненно, было лишение человеческой сущности, и в итоге полное расчеловечивание, физическое и моральное.
Лариса Гениуш выдержала все, пройдя все круги фашистско-сталинского ада. Настрадалась «под самую завязку», но ни в чем не уступила палачам. Что ей дало для этого силу, видно из ее воспоминаний — это все то, чем жив человекчто для каждого должно быть дороже жизни. Это любовь к родине, верность христианским истинам, высокое чувство человеческого достоинства. И еще для Ларисы Гениуш многое значила ее поэзия. В отличие от порабощенной, полуголодной, задавленной плоти ее дух свободно витал во времени и пространстве, будучи неподвластным ни фашистским гауляйтерам, ни сталинскому наркому Цанаве, ни всей их охранительно-лагерной своре. Стихи в лагерях она сочиняла украдкой, выучивала их наизусть, делясь только с самыми близкими. Иногда, впрочем, их передавали другим — даже в соседние мужские лагеря, где изнемогавшие узники нуждались в «духовных витаминах» не меньше, нем в хлебе насущном. Надежд публиковаться даже в отдаленном будущем решительно никаких не предвиделось, да и стихи эти не предназначались для печати. Они были криком души, проклятием и молитвой.
Последние годы своей трудной жизни Лариса Антоновна провела в низкой старой избушке под высокими деревьями в Зельвеу существовала на содержании мужа. Добрейший и интеллигентнейший доктор Гениуш, выпускник Карлова университета в Праге, до самой кончины работал дерматологом в районной больнице. Лариса Антоновна растила цветы и писала стихи, которые по-прежнему нигде не печатались. Жили бедно, пенсии им не полагалось, так как Гениуши числились людьми без гражданства. Зато каждый их шаг находился под неусыпным присмотром штатных и вольнонаемных стукачей, районного актива и литературоведов в штатском. Всякие личные контакты с внешним миром решительно пресекались, переписка перлюстрировалась. Воспоминания свои Лариса Антоновна писала тайком, тщательно хоронясь от стороннего взгляда. Хуже было с перепечаткой — стук машинки невозможно было утаить от соседей. Написанное и перепечатанное по частям передавала в разные руки с надеждой, что что-нибудь уцелеет, сохранится для будущего.
И вот теперь «Исповедь» публикуется.
Из этих созданных человеческим умом и страстью страниц читатель узнает об еще одной трудной жизни, проследит еще один путь в литературу и к человеческому достоинству. Что касается Ларисы Гениуш, то у нее эти два пути слились в один, по- существу, это был путь на Голгофу. Все пережитое на этом пути способствовало кристаллизации поэтического дара Ларисы Гениуш, к которому мы приобщаемся только теперь. Белорусские литературные журналы печатают большие подборки ее стихов, сборники их выходят в наших издательствах. И мы вынуждены констатировать, что талант такой пронзительной силы едва не прошел мимо благосклонного внимания довременного читателя. Хотя разве он первый? Литературы всех наших народов открывают ныне новые произведения некогда известных авторов, а также личности самих авторов — погибших в лагерях, расстрелянных в тюрьмах, казалось, навсегда изъятых из культурного обихода народов. Но вот они воскресают, хотя и с опозданием, доходят до человеческого сознания. И среди них волнующая «Исповедь» замечательной белорусской поэтессы Ларисы Гениуш.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жизнь наша была работой, болью, но была и песней, которой не было у других народов. Пели всюду, и пели все. Пели — значит, жили! Теперь у нас поет только водка в застолье, ревет бездумно, голосит, когда молчит душа наша и песня не трогает сердца. Почему же не поем? Почему голос народа парализовало, чего не было даже при лютой панщине? Когда-то сказал муж нашей Вале, невесточке: «Ты еще не запела в нашей хате, потому ты не наша». Он очень ждал, чтобы эта «дочка» наша запела... Не современные чужие песни, а что-то от души нашей, от души народа...
Значит, останется у нас позади Золотая Прага. Были у меня с нею свои беседы. Старые стены и камни больше мне говорили, чем живая современность. Вознаграждали за покинутый родной край. Теперь лишат нас и того, и другого. Лишат всего, я буду только номером «0-287», который мне нашьют на плечи и по которому будут выкликать меня в нечеловеческий мороз нечеловеческого края...
ГЕЕННА
Судьба человеческая, очевидно, дается нам при рождении, ее не обойдешь и конем не объедешь. Сколько раз я могла уже в этом убедиться на своем веку, также как и в том, что предчувствия мои были верными друзьями, предупреждавшими о беде...
Я уже десять лет в Праге, у меня хороший муж и уже большой умный сын, но сердце мое принадлежит моей Земле, и она меня предостерегает. Уже три года как нет мне покоя. Дрожу и трясусь, когда слышу русский язык, а когда вижу советских людей в военной форме, у меня замирает сердце и хочется быть там, где их нет...
Итак, мы в Вимперке, на границе Чех<ословакии> и Неметчины. Мужу дали там на полгода место врача... Сын учился в чешской гимназии и жил на квартире у украинцев Кущинских в Праге, а я то побуду в Вимперке, то снова еду к сыну. Трудно без меня тому и другому... Я не боюсь, у меня хватает смелости и решительности, это не страх. Я выжила в войну, не покривив душой, не запятнав чистоты своей белорусской совести... Муж принимает больных в своем кабинете, а когда мы едем к ним из Вимперка, у меня всегда появляется надежда, что ночью переедем границу, и мне дышится легче, хочется только, чтобы с нами был сын, а больше ничего и не нужно. Это были только мечты...
5 марта 1948 г. было мне страшно уже с самого утра. Я готовилась ко дню рождения мужа, это 8 марта, заказала ему торт в кондитерской, на карточки выбрала конфеты и еще кое-что из того, что он любил, но ничто меня не радовало, какая-то неясная черная неизбежность нависла надо мной, как туча. Даже молитва не приносила облегчения. Не успел муж сделать мне утром какое- то замечание, как я горько расплакалась, и ему пришлось утешать меня, словно маленькую. Обед прошел внешне спокойно, но когда муж, как и каждый день после полудня, ушел на работу, мне уже было совсем плохо. Каждые полчаса раздавались звонки, то из соседней Квильды просили, чтобы он приехал, то спрашивали, когда он будет дома. Была пятница, я приготовила ужин и в первый раз подумала, что сегодня пост, и отбивные котлеты, картошка и кислое молоко — не грех ли это?..
Уже два дня, как мы ездили на окраину Вимперка. Там умирала молодая женщина, больная раком. Была она после операции и облучения, оставалось только давать ей обезболивающие, чередуя их, чтобы лучше действовали...
После уколов, как обычно, стало лучше. Муж больной попросил нас на пару слов. Мы вышли во двор. В горах чувствовалась весна, блестели в лунном свете лужицы, небо в звездах. Было почти тепло. Человек тот оперся о дверной косяк, спокойный, измученный, бледный, и сказал приблизительно так: «Я несказанно люблю свою жену, но я не могу больше видеть ее страшных мучений, за время ее болезни у меня язва желудка, упадок сил, заболели дети, и я прошу вас, доктор, сделайте так, чтобы она больше не мучилась, сделайте ей укол, чтобы успокоилась навсегда». Муж сказал, что не сделает этого. «Почему?» — глухо, как-то сдавленно спросил мужчина. «Потому что я присягал», — ответил ему доктор. «Так ведь люди добивают скотину, если она так мучится, неужели у вас нет жалости?» — «Одна миллионная за то, что сегодня ночью кто-то найдет лекарство против рака, и для этой одной миллионной я не сделаю того», — спокойно ответил муж. Мы обещали завтра как можно скорее вырваться к ним, чтобы принести умирающей облегчение... Ясно блестело усеянное зведами небо, и чернела земля уже совсем без снега, но еще без травы.
Невесело прошел ужин... Я снова почему-то расплакалась. Был уже одиннадцатый час вечера. Несколько дней, как я рвалась в Прагу. Там была революция, и я дрожала за сына. Муж все время успокаивал меня, звонил сыну по телефону и не пускал меня в Прагу. Однако именно сейчас, в одиннадцать часов вечера я решила вдруг ехать к сыну и стала собирать чемодан. Бесполезно было меня останавливать. Надев короткую, удобную шубку, в платочке и легеньких туфлях я выбежала на улицу, чтобы достать у нашего мясника немного колбасы или мяса, — в Праге с этим было еще трудней. Не успела я отойти от дверей, как ко мне подошел человек и попросил, чтобы я никуда не ходила, так нужно. Я удивилась и велела ему отойти, никто не имеет права меня задерживать. Он окликнул какого-то прохожего, чтобы тот помог задержать меня. Прохожий убежал. Я сказала, что позову мужа. Последовал запрет, тогда я подошла к стене дома и плечом нажала звонок нашей квартиры. Муж вышел...Человек, задержавший меня, пошел с нами, объясняя, что он здесь не один, что они уже приходили и теперь его коллеги в кафе рядом и сейчас придут к нам. Я подошла к телефону и вызвала милицию, тогда мужчина встал и показал какие-то свои документы — сыщика или кого-то подобного. Снова позвонили, муж открыл дверь, и в дом вошло еще 6 человек. Они сказали, что мы арестованы, и велели отдать им документы и оружие. Я показала им на гору шприцев и иголок, которые мне нужно было приготовить к завтрашнему приему, и сказала: «Вот вам оружие врача, какого вы еще хотите?» Муж растерялся, бедный, он лучше, чем я, знал жизнь и слышал об этой нечеловеческой системе. «И вам не стыдно: 7 человек на одного слабого, заработавшегося, измученного доктора?» — продолжала я возмущаться. Делая обыск, они объяснили нам, что область целый день старалась нас оправдать и спасти, но не дали центральные власти. Из Москвы пришла телеграмма, Советы пожелали нашей выдачи. Чехи были, по их словам, бессильны.
Мы оделись, и нас повели в суд, где записали наши биографии, а потом под стражей в тюрьму, размещавшуюся в старой башне старинного вимперкского замка... Надзиратели играли в карты. От компании отделилась женщина, весом не меньше 120 кг, забрала мою сумочку и все из карманов и начала меня обыскивать. Муж мой был врачом и в этой тюрьме.
В грязной, зеленой от плесени камере на нарах, покрытых мятой соломой, сидели две молодые немки, арестованные за переход границы — она ведь была рядом. Я села и только теперь осознала всю трагедию своего ребенка, одинокого в этом городе и в этом народе, и больше уже ни о чем думать не могла... То замирала, то снова приходила в себя от какого-то физического ощущения той черной бездны, в которую низвергнул нас мой безграничный, бескомпромиссный патриотизм, судьба народа, жить для которого — значило обречь себя на смерть от поляков, от русских, от немцев. На этот раз довелось от чехов. В союзе с могучим и победившим восточным государством они давно забыли о гуманных идеалах Масарика и охотно брали на себя роль прислужников кровавого Сталина и его системы. Исключений немного. Заработок и вообще деньги для них ценность, перед которой отступают принципы...
Назавтра принесли мне в камеру из дома мою небольшую Библию на тонкой бумаге, но я не могла читать. Немочки пошли помогать толстой надзирательнице, а я смотрела через зарешеченное окно, как мне казалось, в сторону границы... Если бы, объезжая больных, мы заблудились и переехали ее... Судьба нам, наверно, предначертана свыше. Я напомнила себе, что за Белорусь нужно страдать, и, если придется — умереть, и отступать и каяться нельзя! Горе нашего народа несоизмеримо больше и длится уже века...