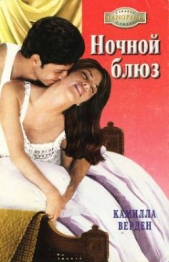Исповедь (СИ)

Исповедь (СИ) читать книгу онлайн
Более жестокую и несправедливую судьбу, чем та, которая была уготована Ларисе Гениуш, трудно себе и представить. За свою не очень продолжительную жизнь эта женщина изведала все: долгое мытарство на чужбине, нищенское существование на родинеу тюрьмы и лагеря, глухую стену непризнания и подозрительности уже в наше, послесталинское время. И за что? В чем была ее божеская и человеческая вина, лишившая ее общественного положения, соответствующего ее таланту, ее гражданской честности, ее человеческому достоинству, наконец?
Ныне я могу со всей определенностью сказать, что не было за ней решительно никакой вины.
Если, конечно, не считать виной ее неизбывную любовь к родной стороне и ее трудовому народу, его многовековой культуре, низведенной сталинизмом до уровня лагерного обслуживания, к древнему его языку, над которым далеко не сегодня нависла реальная угроза исчезновения. Но сегодня мы имеем возможность хотя бы говорить о том, побуждать общественность к действию, дабы не дать ему вовсе исчезнуть. А что могла молодая белорусская женщина, в канун большой войны очутившаяся на чужой земле, в узком кругу эмигрантов, земляков, студентов, таких же, как и она, страдальцев, изнывавших в тоске по утраченной родине? Естественно, что она попыталась писать, сочинять стихи на языке своих предков. Начались публикации в белорусских эмигрантских журналах, недюжинный ее талант был замечен, и, наверное, все в ее судьбе сложилось бы более-менее благополучно, если бы не война...
Мы теперь много и правильно говорим о последствиях прошлой войны в жизни нашего народа, о нашей героической борьбе с немецким фашизмом, на которую встал весь советский народ. Но много ли мы знаем о том, в каком положении оказались наши земляки, по разным причинам очутившиеся на той стороне фронта, в различных странах оккупированной Европы. По ряду причин большинство из них не принимало сталинского большевизма на их родине, но не могло принять оно и гитлеризм. Оказавшись между молотом и наковальней, эти люди были подвергнуты труднейшим испытаниям, некоторые из них этих испытаний не выдержали. После войны положение эмигрантов усугубилось еще и тем, что вина некоторых была распространена на всех, за некоторых ответили все. В первые же годы после победы они значительно пополнили подопустевшие за войну бесчисленные лагпункты знаменитого ГУЛАГа. Началось новое испытание новыми средствами, среди которых голод, холод, непосильные работы были, может быть, не самыми худшими. Худшим, несомненно, было лишение человеческой сущности, и в итоге полное расчеловечивание, физическое и моральное.
Лариса Гениуш выдержала все, пройдя все круги фашистско-сталинского ада. Настрадалась «под самую завязку», но ни в чем не уступила палачам. Что ей дало для этого силу, видно из ее воспоминаний — это все то, чем жив человекчто для каждого должно быть дороже жизни. Это любовь к родине, верность христианским истинам, высокое чувство человеческого достоинства. И еще для Ларисы Гениуш многое значила ее поэзия. В отличие от порабощенной, полуголодной, задавленной плоти ее дух свободно витал во времени и пространстве, будучи неподвластным ни фашистским гауляйтерам, ни сталинскому наркому Цанаве, ни всей их охранительно-лагерной своре. Стихи в лагерях она сочиняла украдкой, выучивала их наизусть, делясь только с самыми близкими. Иногда, впрочем, их передавали другим — даже в соседние мужские лагеря, где изнемогавшие узники нуждались в «духовных витаминах» не меньше, нем в хлебе насущном. Надежд публиковаться даже в отдаленном будущем решительно никаких не предвиделось, да и стихи эти не предназначались для печати. Они были криком души, проклятием и молитвой.
Последние годы своей трудной жизни Лариса Антоновна провела в низкой старой избушке под высокими деревьями в Зельвеу существовала на содержании мужа. Добрейший и интеллигентнейший доктор Гениуш, выпускник Карлова университета в Праге, до самой кончины работал дерматологом в районной больнице. Лариса Антоновна растила цветы и писала стихи, которые по-прежнему нигде не печатались. Жили бедно, пенсии им не полагалось, так как Гениуши числились людьми без гражданства. Зато каждый их шаг находился под неусыпным присмотром штатных и вольнонаемных стукачей, районного актива и литературоведов в штатском. Всякие личные контакты с внешним миром решительно пресекались, переписка перлюстрировалась. Воспоминания свои Лариса Антоновна писала тайком, тщательно хоронясь от стороннего взгляда. Хуже было с перепечаткой — стук машинки невозможно было утаить от соседей. Написанное и перепечатанное по частям передавала в разные руки с надеждой, что что-нибудь уцелеет, сохранится для будущего.
И вот теперь «Исповедь» публикуется.
Из этих созданных человеческим умом и страстью страниц читатель узнает об еще одной трудной жизни, проследит еще один путь в литературу и к человеческому достоинству. Что касается Ларисы Гениуш, то у нее эти два пути слились в один, по- существу, это был путь на Голгофу. Все пережитое на этом пути способствовало кристаллизации поэтического дара Ларисы Гениуш, к которому мы приобщаемся только теперь. Белорусские литературные журналы печатают большие подборки ее стихов, сборники их выходят в наших издательствах. И мы вынуждены констатировать, что талант такой пронзительной силы едва не прошел мимо благосклонного внимания довременного читателя. Хотя разве он первый? Литературы всех наших народов открывают ныне новые произведения некогда известных авторов, а также личности самих авторов — погибших в лагерях, расстрелянных в тюрьмах, казалось, навсегда изъятых из культурного обихода народов. Но вот они воскресают, хотя и с опозданием, доходят до человеческого сознания. И среди них волнующая «Исповедь» замечательной белорусской поэтессы Ларисы Гениуш.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ночью в камерах всегда горел свет, светили в глаза, чтобы мы не повесились, но людям у края могилы очень не хочется умирать. Чем больше их мучат, тем сильнее они верят в жизнь и жаждут выжить. По ночам часто раздавались крики: «Зачем бьешь меня?» Кого-то мучили, кого-то били, от этого становилось жутко. Однажды, уже в 49-м, вызвали меня и повели куда-то высоко наверх. Конвоиры, в основном люди злые, заставляли закладывать руки назад, и мне было трудно так идти. Потом, видно, кто-то шел навстречу, он так повернул меня к стене и так треснул лбом об стену, что потемнело в глазах. Потом тащил меня дальше, дальше... Наконец привел в кабинет Цанавы, ярого сталиниста, который сидел в кабинете, выстланном ядовито-зелеными коврами, обитом деревом. Сидел этот кровопийца за письменным столом, а слева, за другим столом, сидел чех и смотрел на меня с видом победителя. От меня осталась тень — кожа, кости, немного мужества в сердце и остальное — злость. Цанава запросил мое дело, как это у них принято, и приказал снять шляпку с головы, я не сняла. Тогда он начал кричать: «Кто Абрамчик?» — «Мой друг», — говорю. «Кто Абрамчик, кто Абрамчик?» — «Демократ», — отвечаю. «А ты знаешь, что это — демократия?» — верещит. «Государственный строй, основанный на трех принципах фран<цузской> револ<юции>». Называю эти принципы по-французски и спрашиваю, может, перевести, иронически. «Нет, не нужно!» Сначала, правда, он спрашивал у меня, на каком языке со мной говорить: по- русски или вызвать чешского переводчика? А я ему и говорю: «Так как вы являетесь министром бел<орусского> государства, говорите по-белорусски!» Он ошалел! Вокруг стояло много мужчин, какие-то военные, и, я увидела, они чуть не смеялись, когда он сказал: «Вы достаточно хорошо говорите по-русски!» Правда, я тогда ответила, что русским языком не владею в совершенстве. Ну и началось: отдай архив, отдай архив БНР! «Нет у меня его, — отвечаю, — и не знаю, где он!» — «Бить ее, допрашивать день и ночь», — визжит несчастный генацвале. А я, тень человека, распрямила плечи и говорю ему: «Без воли Божьей у меня с головы волос не упадет, и я не боюсь вас!» — «Вы ее испортили, она себя держит, как дама». — визжит палач, а я кричу, что со мною Бог и я не боюсь. Потом думала, откуда взялась сила? Меня вывели, и тут набросились на меня следователи, какой-то Хорошавин, которого тогда назначили начальником следственного отдела, орал: «Бить тебя сам буду, спущу с тебя трусы», — а другой, какой-то перекошенный, страшный, канючил: «Повесить ее на улицах Минска!» — «Еще не выросла та березка, на какой вы меня будете вешать, — кричу, — всех нас вам не перевешать!» А они чуть не линчуют меня, вопят: «На наше место хочешь!» Ага, думаю, вот что для вас главное, вам народ не нужен, до него дела нет, вам место! Как взяла меня злость! Думала, что уже конец; я так ослабела, что организм побоев не выдержит. Ведут меня, а я хочу крикнуть мужу, попрощаться с ним, и он сидел где-то в этой же тюрьме. Но я этого не сделала, подумала, он, бедный не выдержит известия о моей смерти. В камере я утратила силу духа и бросилась на колени, замерла в молитве, как будто перестала жить. С колен я поднялась другим человеком, каким-то по- новому сильным и совершенно спокойным. Для меня существовала теперь только моя Родина. Где-то были мои друзья далекие, мой сын, брат, единственный выживший в войну. Был покой у людей, огни городов, а у меня — отчаянный бой с одичалой реакцией, не за себя, за Родину мою, за нашу правду, за угнетенный-подневольный наш народ, который бился, как рыба в сетях, чтобы жить. Я не знала, что идти на смерть за Родину не страшно, а легко, почти празднично. Все было у меня, т. е. мое сердце и правда. Многие из нас полегли, вымостив дорогу в будущее нашей Родины, какое же имею я право бояться?.. И Цанава, и Коган, и Хорошавин, и перекошенный садист, и выродок тот из Лазов под Волпой стали не страшными, а никчемно маленькими перед величием нашей судьбы!.. Под вечер снова открылась кормушка и гнусавый голос конвоира сказал: «Кто на «г»?» Я спокойно пошла навстречу судьбе. «Руки назад!» Я шла легко, даже ноги не подгибались. На этот раз меня привели в кабинет второго моего следователя, где встретил меня переломанный садист и еще несколько палачей. Они снова обещали повесить меня на улицах Минска, но я спокойно на них смотрела и ждала, что будет дальше. «Ви поэт?» — издевался следователь. — Ви виршеплет! У нас в десятилетках сегодня лучше пишут, ну?» Присутствующие гоготали, а он как-то подозрительно кривился. Наконец компания покинула кабинет, следователь молчал. Я спокойно ждала обещанных побоев. На столе лежало пресс-папье, и я непроизвольно подумала, что если он меня только тронет, схвачу это пресс-папье и тресну его по лбу, буду драться с ним до последнего! Однако он неожиданно спокойно в меня всмотрелся и сказал: «Ну, говорите, что ви хотите, я буду писать». Потом осторожно спросил у меня о БНР, и я ему рассказала необходимое. Он писал. О побоях больше не было речи.
Меня долго не вызывали. В камере мы играли в домино. Я слушала рассказы тех, кто сидел со мной, им нравился Запад. Даже те, кто был там в трудное военное время, считали, что там куда интересней. Меня они считали просто счастливой, говорили: «Вы хоть пожили, поносили красивую одежду, видели людей, а мы что, работу да горе». Мне становилось страшно от их слов, ценность жизни, в моем понимании, не измерялась этим. То были люди, жаждущие жизни и ее радостей любой ценой и ценой совести. Высшие истины и глубинные причины существования им были неведомы. Их знали только украинские крестьянки из пересылки во Львове, и я сильно загрустила по ним... Мне было холодно, и я попросила какую-то мелочь из своих вещей. Для этого нужно было написать заявление в канцелярию тюрьмы и подать ее через кормушку. Мне дали бумагу, и я по-белорусски написала, что мне нужно. Каково же было мое удивление, когда мне вернули заявление с пометкой, что «по-чешски» не понимают, чтобы написала по-русски... Значит, белорусский язык посчитали в Белоруссии чешским! Ого, такого я не предполагала даже от большевиков! О, моя Белорусь, — застонала я, не сдерживаясь...
Наконец меня вызвали. За столом, заваленным бумагами, сидел какой-то третий следователь. Сидел и молчал. Прибежал Коган, сел, листал какие-то журналы и бурчал сквозь зубы, что есть два правительства и два президента белорусских за границей, я молчала, потому что ко мне никто не обращался, и он вышел. Чужой следователь продолжал сидеть, я напротив него, и так мы просидели день, молча. Мне потом говорили, что так они поступают со всеми к концу следствия, а чего только я уже не передумала тогда.
И вот суд. Все чрезвычайные события у моего папы происходили в феврале, он не любил этот месяц. Я на это обратила внимание, значит, и это я от него унаследовала. 7 февраля я выменяла за некую розовую деталь своего белья немного папирос для мужа, кусочек хлеба и ломтик сала, тоненький-тоненький. Меня посадили в «черный воронок», привезли к какому-то дому и ввели внутрь. Была там загородка для нас, скамьи, стол для судей, чуть выше и на ободранных стенах усатый «отец народов». Почти одновременно ввели и моего мужа. Конвоир сразу на него обрушился, но я так же грубо, как он, прервала нахала, и он явно испугался, замолчал. Вошел суд, нам приказали встать и сесть, и началось обвинение. Я уже точно не помню, но вина моя была — «Комитет Самопомощи» в Праге, а мужа то, что он был в Слониме (в командировке). Что-то говорили, а муж худой, страшный, без переднего зуба, ни к кому не прислушивался, только взглядывал на меня сквозь слезы и шептал: «Мама, мамочка, вот я принес тебе чесночек, он так похож на твои любимые лилии, думай, что это цветочек, лилия. 3-го ж была годовщина нашей свадьбы, я выпросил для тебя чесночек у баптиста...» Я ему отдала свои подарки, и мы почти не обращали внимания на то, что говорят о нас опричники. Это был Верховный суд БССР при военном прокуроре. Сидела там и какая-то баба, а председателем был некто Шевченко. Это однофамильство живодера и гения тревожило. Наконец дали последнее слово мужу, и он запутался в словах, у него потекли слезы... Я толкнула его в бок, но он плакал... Мое последнее слово было злобным, я вспомнила смерть родителей, вспомнила всю жестокость и несправедливость властей. Потому что и говорить там не с кем было. Суд вышел. Но едва успев выйти, возвратился назад. Значит, приговор был заготовлен и процесс суда был сплошной комедией! Почти как у Гитлера, а то и помудрей, подумала я. А нам зачитывали приговор по 25 лет ИТЛ каждому без конфискации имущества по той причине, что у нас его нет. У меня подкосились ноги, но злость и ненависть к садистам вернули силы, и я выслушала все до конца. Бедные люди, бессильные создания, подумала я, убогое государство, где или ты мучишь, или мучат тебя, другого не дано!..