А. Блок. Его предшественники и современники
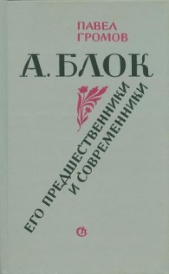
А. Блок. Его предшественники и современники читать книгу онлайн
Книга П. Громова – результат его многолетнего изучения творчества Блока в и русской поэзии ХIХ-ХХ веков. Исследуя лирику, драматургию и прозу Блока, автор стремится выделить то, что отличало его от большинства поэтических соратников и сделало великим поэтом. Глубокое проникновение в творчество Блока, широта постановки и охвата проблем, яркие характеристики ряда поэтов конца ХIХ начала ХХ века (Фета, Апухтина, Анненского, Брюсова, А. Белого, Ахматовой, О. Мандельштама, Цветаевой и др.) делают книгу интересной и полезной для всех любителей поэзии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
театра существуют в несомненных связях с его лирикой. Но поскольку
«Двенадцать», согласно прямым признаниям автора, прежде всего связаны с его
лирикой, а сама эта лирика, и в особенности как раз те циклы 1907 и 1914 гг., на
которые указывает Блок, отличаются чрезвычайно отчетливой
«театрализацией», — вполне закономерно в поэме обнаруживаются аналогии с
блоковским театром.
Особенно примечательны аналогии с первым и наиболее остро ставящим
проблему трагического распада характера современного человека
драматическим опытом поэта — с «Балаганчиком». Современный критик
А. Е. Горелов, совершенно справедливо утверждая, что «в поэме “Двенадцать”
Блок заново решал волновавшие его проблемы»225, столь же резонно указывает
на несомненную аналогичность ряда важнейших ситуаций «Балаганчика» и
«Двенадцати». Такова прежде всего ситуация увода Коломбины Арлекином от
Мистиков и Пьеро, соответствующая измене Катьки с Ванькой, — сама же эта
измена трагически ломает судьбу Петрухи, как измена Коломбины в
«Балаганчике» в конечном счете обусловливала финальное одиночество Пьеро.
Проводится в общем верная аналогия между Пьеро и Петрухой; такая аналогия,
по-видимому, существовала в творческом сознании самого Блока.
«Балаганность» ранних драматических персонажей Блока, несомненно, не была
для него более или менее занятной «театральной игрой», но говорила о
результатах распада личности в общих процессах исторической жизни.
Отсюда — душевная оголенность, схематичность характеров, которая в некоем
новом качестве, в новых решениях может, раз тема здесь — трагизм сознания,
присутствовать и в новой работе Блока. А. Е. Горелов не сосредоточивает
внимания на характерах, сюжете, композиции как на носителях идейно-
творческого замысла; он дает общую, публицистического типа, характеристику.
Необходимо тут отметить еще во многом верный подход критика к центральной
сюжетной ситуации — картонного омертвения Коломбины, объясняемого
неполноценностью, трагической разорванностью сознания и Арлекина и Пьеро;
в «Двенадцати» этому соответствует главное в сюжете — убийство Катьки и
следующая за ним духовная драма Петрухи. Направление решающих
творческих изменений опять-таки в общем верно указано критиком: «… но у
Петрухи на устах уже была иная песня — песня борьбы с тяжелой
жизнью» и т. д.226 Однако верные, тонкие сами по себе наблюдения не приводят
критика к постановке вопроса о кардинальной новизне творческого этапа в
развитии Блока.
Нахождение более сложной исторической, эпической основы в поэме
определяет новизну характеров. Впервые в творчестве Блока лирические по
225 Горелов Анат. Гибель «Соловьиного сада». — В кн.: Подвиг русской
литературы. Л., 1957, с. 426.
226 Горелов Анат. Подвиг русской литературы, с. 428.
своему происхождению характеры — Петруха, Катька, Ванька, коллективный
образ-характер двенадцати — полностью живут самостоятельной
индивидуальной жизнью и, не становясь только аллегориями, только символами
более широких обобщений, не отрываясь от конкретной жизненности, в то же
время несут в себе эти обобщения в полной мере. Получается решение тех
творческих задач, которые ставил себе Блок в лирике и в театре — соединение
трагических характеров с эпической, основой. И поскольку драматизм этих
характеров вполне жизнен — скажем, Петруха не ищет « жизни прекрасной,
свободной и светлой» (IV, 434), как Пьеро, но просто живет своей жизнью в
революционную эпоху, служит в Красной гвардии, любит Катьку, убивает ее,
мучается этим и т. д., — постольку их сюжетные отношения, органически
связанные с эпической основой, придают самой этой основе особое качество.
Получается трагедийный эпос — поэма, где трагические коллизии характеров
несут особое содержание, связанное с революционной эпохой.
Новизну содержания «Двенадцати» могут затемнить, заслонить, запутать
недостаточно органичные аналогии с прежним творчеством поэта, аналогии, не
учитывающие своеобразия идейной проблематики Блока на разных этапах его
развития, и в особенности скачка в его творчестве революционной эпохи. Такой
неправомерной аналогией можно счесть, скажем, настойчиво проводимое
А. Е. Гореловым сопоставление Катьки с Прекрасной Дамой. Сам Блок
решительно возражал против отождествления Прекрасной Дамы с
Незнакомкой, Россией и т. д., — в этом сказывалось у Блока как раз стремление
не путать идейное содержание разных этапов эволюции. Особо важно тут то
обстоятельство, что подобные неорганические аналогии производились,
разумеется с определенными идейными целями, также и современниками
Блока. Так, скажем, Андрей Белый сразу после смерти Блока пытался
истолковать его творчество целиком как единую мистико-философскую систему
со своим имманентным развитием, подчиненную теориям типа соловьевского
«синтеза» и т. д. В соответствии с этим Белый хотел найти у Блока
«… глубокую органологическую связь всего его творчества от “Прекрасной
Дамы” до “Двенадцати”». Не оказывалось при этом никакой разницы между
ранним Блоком и Блоком революционной эпохи: «… и в тебе, Катька, сидит
Прекрасная Дама… И если Катька не спасется — никакой Прекрасной Дамы
нет и не должно быть». Заново проводилось полное отождествление
мистических теорий «синтеза» и реальной жизни, и Блок оказывался
проповедником этой религии «третьего завета»: «И вот, что же есть
“Двенадцать”? — “Двенадцать” — не “стальной интеграл” и не Восток, не то и
не другое, а нечто третье, соединяющее и то и другое, нечто совсем новое»227.
Далее отсюда следовало утверждение «… революции жизни, сознания, плоти и
кости…» и возвещалась, в конечном счете, «… третья духовная революция,
которая и приведет к мистерии человеческих отношений»228. Заново возникал
227 Речь Андрея Белого на открытом заседании Вольфилы 28 августа
1921 г. — В кн.: Памяти Александра Блока. Пг., 1922, с. 25, 30.
228 Памяти Александра Блока, с. 30, 33.
идейный спор Белого и Блока после революции 1905 г., при этом Блоку
приписывалось то, с чем Блок реально, фактически, всю жизнь более или менее
осознанно боролся. Мнимые «друзья» Блока путем таких перетолкований его
творчества в духе теорий «синтеза» пытались приобщить его к своей
общественной позиции, к своим поползновениям создать «третью силу» в
борьбе эпохи, силу «синтетическую», соединяющую социальную революцию с
«революцией духа». Такого рода «синтетические» идеи, близкие к Белому,
проповедовались и приписывались также и Блоку, скажем, в предисловии,
предпосланном первому отдельному изданию «Двенадцати»: «… нет полного
освобождения ни в духовной, ни в социальной революции, а только в той и в
другой одновременно»229. Блоку приписывалось здесь стремление
«синтезировать» социальную революцию с «революцией духа», с
христианством; для этой цели использовалась блоковская поэма, и образ Христа
в ее концовке в частности. Следует понять, что подобного типа измышления
могут основываться только на непонимании идейного замысла поэмы,
реализованного в ее композиционном построении.
Сам Блок очень далек от такого рода сочиненных теорий «синтеза»
социальной революции с «революцией духа»; дело, разумеется, не только в том,
что ему чужда подобная, отдающая просто пошлостью, терминология, — весь
ход его трагедийной мысли совершенно иной. Любопытна следующая деталь: в
записи от 29 января 1918 г. о «страшном шуме, возрастающем во мне и вокруг»,
после фразы о Гоголе, устанавливающей эпическую основу поэмы, есть еще о
«шуме истории» такая фраза: «Штейнер его “регулирует”?» (IX, 387).
























