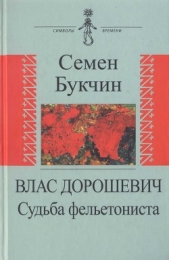Услады Божьей ради

Услады Божьей ради читать книгу онлайн
Жан Лефевр д’Ормессон (р. 1922) — великолепный французский писатель, член Французской академии, доктор философии. Классик XX века. Его произведения вошли в анналы мировой литературы. В романе «Услады Божьей ради», впервые переведенном на русский язык, автор с мягкой иронией рассказывает историю своей знаменитой аристократической семьи, об их многовековых семейных традициях, представлениях о чести и любви, столкновениях с новой реальностью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По причинам, на которые я уже не раз указывал, в этих воспоминаниях содержится слишком много заметок исторического и социального порядка. У меня нет ни малейшего желания ни описывать, ни комментировать после стольких полковников, дипломатов и журналистов эволюцию алжирской политики генерала де Голля. Во-первых, потому что я мало в ней сведущ, а во-вторых — и это главное, — что моя цель состоит не в том, чтобы описывать в который уже раз, историю последних лет, а лишь показать, как она пронизывала и влияла на поведение людей, быть может, даже больше, чем их опыт в области чувств или прямо-таки сакральные годы младенчества. Изменил ли генерал де Голль свое мнение об Алжире в период между 1958 и 1960 годами или можно было, обладая опытом, угадать зародыши будущих событий в его заявлениях, вызывавших энтузиазм толпы на алжирском Форуме и на улице Исли? Откровенно говоря, я не знаю. Знаю лишь, что Филипп — возможно, потому, что был не очень умен, — вообразил и твердо поверил, что если генерал станет президентом, то Алжир наверняка останется французским. Вероятность иной политики он допускал. Но не мог допустить, что такую политику будет проводить де Голль. Сила де Голля, его гений в том и заключались, что ошибочное мнение Филиппа разделяли многие, как среди сторонников интеграции Алжира, так и среди сторонников независимости последнего. Генерал менялся, необыкновенно талантливо лавировал между теми и другими, опираясь то на одних, то на других, а то и одновременно на тех и на других, постоянно ими манипулируя. Многие из тех, кто поддерживал миф де Голля, не одобряли его политику, а большинство людей, одобрявших его политику, ни в коем случае не хотели, чтобы ее осуществлял этот генерал, которого они так ненавидели. Эта его неопределенность и резкие повороты порождали возможности для необычно рискованных действий, намного превосходящих воображение Филиппа и его способность к обновлению, ибо он не обладал ни качествами, ни недостатками, необходимыми для того, чтобы быть хозяином своего времени.
В нем жила добросовестность, отсталая добросовестность, повернутая в прошлое. Этого было мало. История учит, что добросовестности недостаточно, чтобы занять место, которое обеспечивают хитрость, амбициозность, предвидение, ум и гениальность. Филипп предавался иллюзиям о франко-мусульманском братстве. В Италии и в Германии он сражался в составе алжирских частей, где его уважали и где он имел много друзей. Я никогда не поверю, что он был причастен к убийствам или пыткам. Он старался, по его выражению, объединять людей доброй воли и возбуждать их энергию, не занимая никакой официальной должности, он принадлежал к числу тех, кто целыми днями крутился вокруг баров «Алетти» и «Сен-Жорж» и в странной, многократно описанной обстановке, связанной с тайными делами и национальной безопасностью, плел интриги и готовил перевороты. Однако по мере того, как проходили дни, недели, месяцы, Филипп вынужден был признать, что намерения генерала не соответствовали тому, чего он от него ожидал. Потеря Плесси-ле-Водрёя стала для Филиппа ужасным ударом. А осознание сути алжирской политики генерала явилось еще одним, может быть, гораздо более сильным. Мир вокруг Филиппа все больше и больше умирал, а история не переставала его предавать.
Вот при таких обстоятельствах я встретил Филиппа в Риме на вечере у Анны-Марии. Нервы его были на пределе. Все ему причиняло боль. В том числе и Анна-Мария. Его былые похождения ее забавляли, и она охотно делилась с дядюшкой Филиппом новостями о своих любовных победах. Это приводило его в отчаяние. А в истории с ливанцем это было ему просто невыносимо. Ливанец, образ жизни и репутация Анны-Марии, не выходящая из головы утрата Плесси-ле-Водрёя, распад семьи, наконец, непонятная роль генерала в агонии французского Алжира — все говорило Филиппу, с каждым днем все более настоятельно, что мир, который был ему дорог, уходит в прошлое. Любовник Анны-Марии быстро понял ситуацию и пустил в ход свои козыри. Он наносил удары по самым чувствительным местам, ставил Филиппа в положение, когда тот противоречил и самому себе, и генералу. Зрелище было просто ужасным. Спор принимал форму необычного и трагически неравного боя. Весь в поту, с блуждающим взглядом и трясущимися руками, Филипп опорожнял один за другим бокалы, которые ему подносили. Два или три раза я попытался вмешаться, успокоить его и увести из зала. Но он не мог уйти. Его притягивало, гипнотизировало то, что было ему ненавистно. Тонкость рассуждений, ирония, отказ от прошлого, игра идей, ожидающих всего от будущего, поведение Анны-Марии, выступавшей против него. Окруженный юными датскими киноактрисами и римскими князьями, ливанец с улыбкой наблюдал за крушением своего противника. Он позволял себе роскошь восхищаться де Голлем, видеть в нем инструмент исторического процесса. И тем самым застигал врасплох растерявшегося деголлевца. При этом он наносил малозаметные удары, обнимая за шею Анну-Марию, добивая дядюшку проявлениями нежности по отношению к племяннице, громко смеясь, радуясь жизни и сокращая жизнь Филиппу. Над Римом вставал рассвет, когда мы с Филиппом оказались на площади Венеции, где когда-то, много лет тому назад, мы с Клодом присутствовали при рождении фашизма. Мой кузен качался, пьяный, усталый, униженный, отчаявшийся. Из его уст вырывались бессвязные слова, в которых слышался бессильный гнев. Он плакал. Я его поддерживал. Он упрекал меня за то, что я не помог ему в борьбе с коалицией актрис, вырождающейся аристократии и революционного капитализма. Я пытался его утешить, говорил короткими фразами, делал вид, что мне смешно. Но он был смертельно ранен. Он повторял: «А де Голль!.. А де Голль!..» Я понимал, что в имя этого человека, которому он так долго был предан, он вкладывал все свои не осуществившиеся чаяния, ужасную усталость и горечь от того, что ему уже не удается поймать свое будущее. С этим нельзя было ничего поделать. Он был слишком стар, причем не по возрасту, а из-за истории. Мы двигались мелкими шажками, он опирался на меня, мы то и дело останавливались отдохнуть, поплакать, пару раз его вырвало. Сцена из комедии. Но мне было не до смеха. В тот вечер в Риме Филипп, можно сказать, умер. Его отравили слова. Задушили мысли, которые он уже не мог контролировать. Расстреляла история.
Я не был особенно удивлен, узнав, примерно через полгода, о смерти сначала Филиппа, а через несколько недель — и Анны-Марии. Моего двоюродного брата нашли в городе Алжире, в одном из тупиков, с пулей в голове и лежавшим рядом с ним револьвером. Я был уверен только в одном: он хотел умереть. Что же до деталей… Одна за другой выдвигались самые противоречивые версии: самоубийство, расправа бойцов Фронта национального освобождения, месть оасовцев, не простивших Филиппу его контактов с деголлевцами, убийство секретными службами голлистов, считавших, что он зашел слишком далеко в своих контактах с ОАС… У всех были основания желать его смерти, причем у него самого, быть может, даже больше, чем у других. На эту тему много писали. В Париже мне нанесли визит два молодых итальянца, друзья Джорджо Альмиранте, более или менее замешанные в деятельности неофашистов. По иронии судьбы их ко мне прислал один политик крайне правого толка, сын человека, о котором вы наверняка забыли: учителя, социалиста из Плесси-ле-Водрёя, которому дедушка однажды накануне войны демонстративно пожал руку. Они заверили меня, что ливанский любовник моей племянницы имел тесные связи с руководителями Фронта национального освобождения и показал на Филиппа как на человека, настроенного против независимости Алжира. Они предложили передать мне за довольно крупную сумму фотокопии документов и неопровержимые доказательства. Однако примерно в то же самое время наш семейный нотариус передал мне письмо, оставленное ему самим Филиппом. Оно было написано в резких выражениях по отношению к некоторым нашим соотечественникам и вовсе не соответствовало разоблачениям итальянских визитеров. Наконец, несколько свидетельств родных и друзей не оставляли сомнений в тяжелой депрессии, в которой находился Филипп в последнее время. Мы с Пьером полетели в Алжир. Пробыв там больше недели, мы ничего конкретного не узнали. В самолете на обратном пути Пьер сказал мне, что самым грустным в этой смерти было то, что Филипп всегда мечтал умереть за Францию. Странная мысль, в которой было мало смысла. Вот он умер. Но за что? Имели ли мы право написать на его могиле те избитые слова, которые были начертаны на могилах его брата, моего отца, стольких дядюшек и двоюродных дедушек, слова, которые он так хотел бы видеть: «Пал на поле чести» или «Умер за Францию»? Умирали ли еще на поле чести в эпоху Дьенбьенфу, в эпоху битвы за Алжир, во времена ОАС, а потом — во время войны во Вьетнаме, когда во Франции юноши ложились на рельсы, чтобы помешать поездам доставлять боеприпасы сражающимся? Мы все жили в прошлом. Филипп унаследовал от прошлого то, что устарело безвозвратно в нашем мире механизации: воинский дух, рыцарскую позу, средневековый миф о героизме, любовь к дисциплине и субординации, все, что нынче оказалось не только забытым, но и попранным, вызывающим лишь презрение и даже ненависть. «Знаешь, — сказал Пьер, — лучше будет сказать, что он решил умереть вместе с Плесси-ле-Водрёем». Да, так было лучше. И пожалуй, вернее. И потом, не было никакой нужды в нашем разваливающемся мире вдаваться в детали.