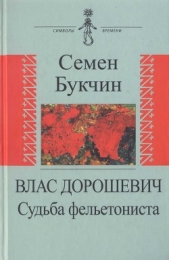Услады Божьей ради

Услады Божьей ради читать книгу онлайн
Жан Лефевр д’Ормессон (р. 1922) — великолепный французский писатель, член Французской академии, доктор философии. Классик XX века. Его произведения вошли в анналы мировой литературы. В романе «Услады Божьей ради», впервые переведенном на русский язык, автор с мягкой иронией рассказывает историю своей знаменитой аристократической семьи, об их многовековых семейных традициях, представлениях о чести и любви, столкновениях с новой реальностью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
За год или полтора до этого в двух городах древней Европы, более других богатых воспоминаниями, произошли, с интервалом в несколько недель, события, показавшиеся нам тогда чрезвычайно важными, и, возможно, в истории они останутся именно такими. В каком-то смысле они были антиподами друг друга, но вполне возможно, что являлись частью одного и того же движения умов, но, будучи увиденными через призму обстоятельств и идеологий, получили различную окраску и оценку. Я имею в виду майские дни в Париже и подавление Пражской весны. Еще раз скажу, что у меня нет никакого желания давать здесь урок истории или же описывать события, о которых все помнят. Я просто продолжаю рассказ о том, что происходило в семье, или о том, что от нее осталось, в свете того, что мой дед в течение полувека называл несчастьями нашего времени. Примерно в феврале, а может, в марте 1968 года, я обедал у Клода и Натали с Вероникой и ее вторым мужем. Ален привел трех своих ранее мне незнакомых друзей, одного почти изысканного в своих манерах, другого — тяжело отдувающегося и, наконец, третьего, рыжего, казавшегося более веселым и забавным, чем большинство юношей его поколения. Я почти успел забыть о них и вдруг месяца два-три спустя узнал их на экране телевизора. Это были Соважо, Жесмар и Кон-Бендит. Если я и упоминаю здесь о них, то лишь потому, что, подобно Дрейфусу и Гитлеру — но в меньшем масштабе, — они больше других оказались замешанными в семейную хронику, которую я пытаюсь здесь изложить. Несмотря на их ничтожество и по причине их известности в течение трех недель, когда петарды не переставая взрывались на фоне перевернутых автомашин, распространяя запах серы еще одной революции, революции не политической, не социальной, не экономической, а на этот раз революции нравов, эти молодые люди попали в наш фотоальбом наряду с бабушкой под вуалью, наряду с Пьером в его соломенной шляпе-канотье, с Петеном в Виши, сфотографированном, когда две девочки в эльзасских костюмчиках вручали ему цветы наряду с генералом де Голлем, расставившим в излюбленном своем жесте руки, когда он, стоя на балконе, произносил со своим неподражаемым акцентом несколько слов по-английски, по-испански или по-русски во славу французского языка.
В глазах Алена и Клода так называемые майские события в Париже и русские танки в Праге, само существование которых отрицали руководители ФКП, окончательно отбросили советский коммунизм в лагерь сил угнетения. Но выводы, сделанные двоюродным братом и его сыном, сильно отличались друг от друга. Клод признался мне, что после московских процессов, после российско-германского пакта, после развенчания культа Сталина, после Будапешта и сибирских лагерей его иллюзии еще раз, и теперь уже окончательно, рухнули. Сталина уже не было, а Прагу оккупировали. Он отказывался от революции. Постепенно он возвращался если не к идеям дедушки, то к либерализму моего отца, либерализму, который поначалу противостоял былому фанатизму, а потом в свою очередь стал современной формой консерватизма, осуждаемого Аленом. Что касается самого Алена, то он отнюдь не считал нужным возвращаться назад, считал, что, напротив, нужно стремиться вперед. Куда? В освободительное меньшинство, работающее для масс, к антинасилию, разоблачающему замаскированное насилие угнетающих классов и их скрытое господство. Клод ставил появление русских танков в Праге в один ряд с выступлениями леваков в Париже, поскольку и те, и другие действовали во имя марксизма. А Ален приравнивал действия русских танков к действиям французской жандармерии — сравниваемой им по наивности с немецкими эсэсовцами, — поскольку и танки, и жандармерия подавляли народ в лице молодежи и студентов. И отец, и сын осуждали события в Праге. Отец вышел из испытания антимарксистом, а сын — ультрамарксистом. В головах людей царила неразбериха. Так, жившая где-то не то в Вандее, не то возле Ниора одна наша очень древняя и очень реакционно настроенная двоюродная бабушка, унаследовавшая, возможно, кое-какие иллюзии Филиппа, приветствовала действия советской армии, в которой она видела воплощение воинского духа и всех сил порядка, какие только остались в мире. И разумеется, ничто не могло переубедить огромную массу людей, упорно продолжавших видеть в большевистской Москве надежду революции. Ясно и несомненно было одно: каждый спешил назвать фашистами всех, кто думал не так, как он.
Загадкой для нас была также интимная жизнь Алена. Порой нам казалось, что у него нет таковой вообще. Даже в нашей семье со всеми ее строгими нравами большинство мужчин, как говорили в старорежимные времена, очень любили женщин. А вот Ален, у которого секс, если можно так выразиться, не сходил с языка, явно не любил женщин. Мать его, афишировавшая прогрессивные идеи в области воспитания, как-то не удержалась и спросила меня, не думаю ли я, что Ален является гомосексуалистом. Нет, я не думал. Хотя в Алене и не было ничего от соблазнителя вроде знаменитого в свое время аргентинского дядюшки, или моего двоюродного брата Филиппа, или даже вроде дяди Поля в ту далекую пору, когда тетушка Габриэль упала в его объятия, он все же совсем не походил на классический тип гомосексуалиста, каким его описали в своих книгах Пруст и Андре Жид, на тот тип, черты которого мы находили кое в ком из далеких родственников нашей неисчерпаемой семьи. Я бы скорее сказал, что в Алене все, включая любовь и половое влечение, приобретало теоретический аспект. Странно, но, несмотря на бороду и длинные волосы, являвшиеся, по-видимому, своего рода реваншем, у Алена, как и у многих парней его возраста, идея естества, природы, находилась в таком же ослабленном состоянии, как и идея культуры. Что это: влияние машин и технического прогресса? Я не знаю. Но мы, проведшие всю жизнь среди условностей и притворства, наверняка были во многих отношениях ближе к природе, чем он. Ничто не приходило к нему как очевидная, неопровержимая данность. Все у него проверялось опытом, в ходе дискуссий, поскольку, не склонный к колебаниям, ибо он был категоричен и резок в суждениях, непредсказуемость он все же признавал. Взгляды и оценки нашего поколения долгое время оставались до тошноты предсказуемыми. О нем этого уже нельзя было сказать. В замкнутом мире, где мы жили, все было окружено барьерами. Для него же никогда не существовало ничего запретного, невозможного или святого.
Быть может, прежде всего именно эта идея святого или священного и отделяла нас от Алена. Мы купались в святом, как в постоянном и возвышенном флюиде, как в том воздухе, которым только и можно дышать. Священным было все — от времени приема пищи и новогодних поздравлений незнакомым тетушкам до таинства непорочного зачатия и до преклонения перед покойными. Не исключено, что со временем это могло постепенно измениться. От верности королю понятие священного путем незаметных превращений переросло в верность трехцветному флагу. Но в той или иной форме что-то священное от непоколебимого Святого Отца до вечно меняющейся моды обязательно присутствовало в нашей жизни. Хлеб испокон веков был священным. Несколько позднее таковыми стали идеи и книги. Бедняки были священны, причем двояко: потому что нужно было, чтобы они были, и потому что их надо было любить. А может, они были необходимы только для того, чтобы их любить. Прошу еще раз напрячь память. Вы еще помните рассуждения — о, как это все уже далеко, Боже мой! — о том, что вещи являются тем, чем они являются? Так вот, вещи уже не являлись тем, чем они являлись. Их что-то подтачивало изнутри, они отделялись от себя самих, они отрывались от причалов, привязывавших их к порядку, и уплывали в открытое море, раскачиваемые волнами сомнений и недовольства существующим порядком, разъедаемые сокрушающей все и вся солью священного. И была еще одна формулировка, которую мы вдалбливали детям с самого раннего возраста и которая хорошо выражала нашу покорность всему освященному: «Так положено». Вся наша жизнь была полна того, что было положено. Умереть ради своей веры или за свою родину — это так положено. Целовать дамскую ручку или перстень епископа — так положено. Смелость, элегантность, прямота, некая слепота и, может быть, некоторое двуличие — так было положено. Для Алена же, наоборот, ничего не было положено, все можно было изменить.