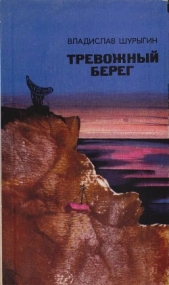Снег на Рождество

Снег на Рождество читать книгу онлайн
В своих повестях и рассказах Александр Брежнев исследует внутренний мир русского человека. Глубокая душевность авторской позиции, наряду со своеобразным стилем, позволяет по-новому взглянуть на устоявшиеся обыденные вещи. Его проза полна национальной гордости и любви к простому народу. Незаурядные, полные оптимизма герои повестей «Снег на Рождество», «Вызов», «Встречи на «Скорой», в какой бы они нелегкой и трагичной ситуации ни находились, призывают всегда сохранять идеалы любви и добра, дружбы и милосердия. Все они борются за нравственный свет, озаряющий путь к самоочищению, к преодолению пороков и соблазнов, злобы и жестокости, лести и корыстолюбия. В душевных переживаниях и совестливости за все живое автор видит путь к спасению человека как личности. Александр Брежнев — лауреат Всесоюзной премии им. А. М. Горького.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вам надо отдохнуть. Вот вам больничный, — поспешно произнес я.
Точно изучая, он посмотрел на меня. И все та же доверчивость была на его лице. «Как жалок и беден этот доктор, — подумал я, — разве может он внушить к себе доверие больных?»
Больной доктор сидел на чурке, погруженный в свои мысли.
— Извините, но мне больничный не нужен. Если можно, конечно, дайте справку, да и то так, на всякий случай.
— Ведь вам по больничному заплатят… — пролепетал было я. Но он оборвал меня.
— Не знаю, как вы, — тихо произнес он, — но я, вы извините, конечно, может быть, я не прав, но самое сложное для меня сейчас — это получать зарплату за врачевание. Не могу. Третий месяц не могу эти деньги брать. Мне кажется, если брать деньги за врачевание, то это не врачевание.
Он говорил, а я слушал. В другой ситуации эти откровения молодого доктора казались бы мне милыми и забавными. Мол, чего только не придет в голову юному максималисту. Сейчас я слушал его и завидовал ему. Он, этот доктор, был намного выше и чище меня. Он даже в своем убогом быту находил радость и понимал ее. Он радовался своему святому долгу.
Он говорил, и лицо его оживало. Холодно и дымно было в его комнатенке. Но как много значила для меня эта встреча.
Он был прост на лицо. Небольшая борода. Исхудалая, изможденная грудь. Суковатые руки с редкостным узором жил нервно плясали, когда я помогал ему влезать в машину. Внешне он был опрятен. Вот только штаны мокрые, да под носом, словно у уличного мальчонки, светились две сопельки.
Водитель прикрыл нос ладошкой:
— Дед, тебе сколько лет?
— А сколько дашь? — спросил старик и застуженно, до слез закашлялся.
— Небось все девяносто? — фыркнул водитель. — Ну и запах же от тебя…
А старик, словно не расслышав его, подавив удушье, вытер мутные глаза, поправил на коленях сумку-вещмешок, замотал головой:
— Ай-ай-ай! И не стыдно тебе, сынок? Я ведь три войны оттяпал. Так что сам посуди, когда мне было время за самим собой смотреть? Ну, недосмотрел. Что же теперь.
Водитель мой смутился:
— Недосмотрел… недосмотрел… Да я ведь, дедок, не о твоем мочевике расспрашиваю. Ты вот лучше скажи, сколько годков тебе минуло?
— Без года как сотенка, — наконец признался дед и, посмотрев на меня, улыбнулся. Видно, ему в радость было, что о нем заботятся и везут на «Скорой» в больницу.
А может, еще трогало и то, что я не посчитал его тронувшимся, как считали участковые врачи в городе, где он жил с конца империалистической.
Он ехал на машине с пониманием дела. И хотя от него, чего греха таить, и попахивало, все же он расположил нас к себе. Разговор у нас ладился. И водитель, перестав прикрывать ладошкой нос, порой заслушавшись дедовых побасенок, ржал как сивый мерин, то и дело восклицая:
— Ничего себе… вот так дед… ухохочешься…
— Бывает, и больше живут, — заговорил дед. — А в наше время, сынок, память, сам знаешь, мелеет…
Увидев в приемном отделении рядом со мной деда, опирающегося на палку, дежурный врач, ткнув моим же направлением мне под нос, со злостью рубанул:
— Слушай, друг, ты хоть соображаешь, кого нам привез?! Ты что думаешь, у нас дом престарелых? Да пойми ты, у нас молодых класть некуда, а ты нам «музейную ценность» приволок.
Я начал ему объяснять, уговаривать, что уж больно старичок хороший, я, может быть, его к вам бы и не повез, да вот у него началось второй раз воспаление легких, а живет он один, стационар на дому невозможен. Участковые врачи считают его чокнутым. Дежурный врач при слове «чокнутый» посмотрел на меня, потом на деда.
— М-да… — произнес он и почесал затылок. — Ну и приволок же ты лешего… из сосняка дремучего…
Затем он подошел к деду и, строго посмотрев на него, спросил:
— Слушай, старик, ты вот лучше скажи мне, сколько будет дважды два.
Дед, навострив уши, настороженно поднял на врача глаза. А затем шепотом с лукавинкой переспросил:
— А сколько надо?
— Ничего себе, — засмеялся дежурный врач. — А ты говоришь «чокнутый». Ладно, беру твоего деда.
Тут мой дед, подтянув кирзовые сапоги, подошел к врачу и, откашлявшись, произнес:
— А вы меня, сынок, обижаете.
— Что такое? — встрепенулся тот.
— А вот у меня на груди есть одна божница. Минуточку… — и дед расстегнул рубаху.
— Иконка, что ли? — спросил врач.
— А это не хошь? — И дед, разорвав нитку, положил на его ладонь гренадерский нагрудный знак, где было выгравировано, что Степанов Иван Пантелеймонович является старшим медбратом пятого гренадерского полка.
— Присягу принимал? — с трудом сдерживая кашель, строго спросил его дед.
— Принимал… — растерянно произнес врач.
— Так что своего брата медика лечи… Понял?..
— Понял…
Трудно сказать, что произошло с дежурным врачом. Но он стоял перед дедом, как мальчуган, которого только что отодрали за уши.
Выехали сразу на три вызова. У больных, кроме болей в сердце, еще букет всяких болезней. Короче, «гостинец» что надо. Со мной выехал и старший врач бригады Пал Палыч. Он хорошо знает этих больных, так как «Скорую» они вызывают почти через день. Я волнуюсь, перебираю в голове осложнения, которые бывают при заболеваниях сердца. А Пал Палыч хоть бы что — насвистывает себе под нос песенку.
Зевнув, спрашивает меня:
— Ты сколько лет учился?
— Семь, — отвечаю я.
— Ну чего же тогда волнуешься? Ладно, это я все болезни мог позабыть, а ты небось все назубок помнишь. Подними тебя ночью, так ты небось латынью такое выдашь…
Сказав это, он на несколько минут замолкает. Потом, улыбнувшись широкой, во все лицо улыбкой, спрашивает:
— Ты думаешь, мы этим больным поможем? — и сам же отвечает: — Нет, не поможем. Им не мы нужны, а «Скорая». По-нашему — психотерапевтический эффект.
Наконец подъехали. Пал Палыч, потянувшись, берет с собой врачебную сумку, дефибриллятор и прочую чепуху, которая в машине лежит годами и которой мы почти не пользуемся.
— Зачем вы все это берете? — удивляюсь я. — Ведь этими наборами больному не здесь оказывать помощь.
Пал Палыч, поправив воротник, смотрит на меня с разудалой бесшабашностью и, театрально подняв кверху руку, восклицает:
— А вот больному, оказывается, это важно. А еще больному, так сказать, важно, чтобы врач был в форме. Для нас — психотерапевтический эффект, а по-ихнему, если врач вооружен до зубов вот этими самыми штуковинами, то уж он обязательно поможет… Понял ты?..
— Я-то понял, — вздыхаю я. — Только это как-то нечестно.
— Нет, все честно. Я на этом деле волка съел. — И, настроившись на веселую нотку, Пал Палыч продолжает поучать меня: — То, о чем в учебниках пишут, в жизни не всегда встретишь. Конечно, я не против, диплом нужен, но только для престижа, и не более. Да и учиться-то кому-то в институтах надо…
Он говорит все это с шуткой. Мы поднимаемся по лестнице. Пот льет градом по его лицу. Под такой тяжестью аппаратуры ему идти трудно. Это если не считая двух ящиков с шинами, которые я еле-еле волоку следом. И супротив ничего не скажешь. Он старший врач, и я обязан его слушаться. За последние пять лет работы на «Скорой» у Пал Палыча не было ни одного смертного случая. И, наверное, потому, что он не ленится обслуживать вызовы с такой вот солидной амуницией.
Вечером на нашей станции сказочно шумно. Вся «Скорая» от мала до велика двигается, бегает — идет пересменка. Вслушиваясь в фиолетовую темноту вечера, я, кроме всей разноголосицы, слышу и скрип телеги. Это Егор Егорович везет на своей гнедухе баки с отходами из пищеблока. Сейчас его уже никто не меняет. Он работает один. Было время, когда несколько лет назад в зимы, богатые снегом, его гнедуха выручала нас. Но сейчас дальше больничных дворов Егор Егорович на ней никуда не ездит. Его гнедуха слепа на один глаз. Он, этот правый глаз ее, всегда печален и мокр. Иногда, подойдя со стороны слепого глаза, я тихонько окликаю ее: «Гнедуха!.. А гнедуха?» Но она почти не реагирует на мои слова, лишь изредка чуть-чуть опустит вниз голову да прикроет воспаленные веки. Когда Егора Егоровича спрашивают, отчего ослепла гнедуха, он машет рукой: