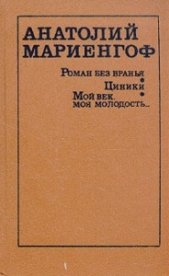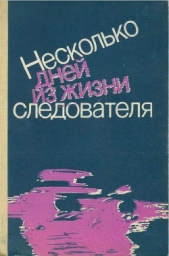Как несколько дней

Как несколько дней читать книгу онлайн
Всемирно известный израильский прозаик Меир Шалев принадлежит к третьему поколению переселенцев, прибывших в Палестину из России в начале XX века. Блестящий полемист, острослов и мастер парадокса, много лет вел программы на израильском радио и телевидении, держит сатирическую колонку в ведущей израильской газете «Едиот ахронот». Писательский успех Шалеву принесла книга «Русский роман». Вслед за ней в России были изданы «Эсав», «В доме своем в пустыне», пересказ Ветхого Завета «Библия сегодня». Роман «Как несколько дней…» — драматическая история из жизни первых еврейских поселенцев в Палестине о любви трех мужчин к одной женщине, рассказанная сыном троих отцов, которого мать наделила необыкновенным именем, охраняющим его от Ангела Смерти. Журналисты в Италии и Франции, где Шалев собрал целую коллекцию литературных премий, назвали его «Вуди Алленом из Иудейской пустыни», а «New York Times Book Review» сравнил его с Маркесом за умение «создать целый мир, наполненный удивительными событиями и прекрасными фантазиями»…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Накануне праздника Песах гранаты Тони Рабинович покрылись буйством маленьких карминных листьев, потом расцвели и распустились красным, и ко времени июньских хамсинов[39] пурпурные завязи уже набухли и украсились пышными коронами.
Юдит приготовила бумажные кульки, позвала Номи, и они вместе прикрыли маленькие плоды от порчи и солнца, а осенью, завершившей то лето, уже сидели на новой дорожке и ели гранаты.
Первые гранаты, с большими розовыми зернами, поспели уже к сентябрю, на Рош а-Шана[40], а темные, кисловатые плоды Юдит собрала после Суккот[41]. Она выжала их, процедила сок через белую стираную тряпку, через которую процеживали молоко, и показала Номи, как делать из него вино.
Годы прошли с тех пор, но мне легко нарисовать их в своем воображении: вот они, сидят на сером бетоне, — женщина, которая уже умерла, и девочка, которая уже выросла, голубые хлопчатобумажные косынки на головах и четыре голых коленки. Их сильные босые ступни исколоты маленькими, похожими на юлу, плодами эвкалипта, который тогда еще стоял во дворе, и такими же маленькими твердыми ежиками, которые непрестанно сыпались с казуарин.
Юдит брала гранат, легко обстукивала его со всех сторон деревянной ручкой ножа и потом обрубала его корону. Она обдирала кожицу вокруг обрубленной верхушки, осторожно надрезала ножом кожуру и разламывала плод пальцами.
— Никогда не режь его ножом, Номичка, — учила она. — Металл придает гранату плохой вкус.
Подушечкой большого пальца она расшатывала и отделяла гранатовые зерна в чашечку второй ладони, а оттуда забрасывала их в рот.
— Это мамины деревья, — ворчал Одед.
— Так ешь тоже, — говорила Номи.
— Не роняй ни одного зернышка, — предостерегала ее Юдит, как предостерегала и меня спустя несколько лет, когда и я уже был на свете и мы с ней сидели на той же дорожке и ели гранаты. — Не роняй ни единого зернышка. Кто уронил зернышко, тот проиграл.
Она и сегодня предостерегает меня этими словами в моем воображении, но сегодня я уже не ем от плодов тех гранатовых деревьев. Каждую зиму ими завладевают малиновки, а каждой весной они снова вспыхивают карминным и красным и к осени гнутся под изобильной тяжестью плодов. Из неясного чувства долга я каждый год защищаю их бумажными кульками, но не срываю, когда они созревают.
Лето проходит, птицы и ветер разрывают бумажные мешочки, и маленькие мушки брожения, обезумев от сладости и страсти, зависают над сочащимися трещинами в кожуре и говорят мне: «Осень».
Потом плоды высыхают и затвердевают в своих разорванных мешочках, точно мумии в разодранных саванах. Чернота их кожуры говорит мне: «Зима», — а их зерна рассыпаются, как зубы мертвецов, на зимних ветрах.
18
Спи, мой Номик, невеличка,
Спи и слушай, дорогой,
Ты как маленькая птичка,
Нет нигде такой другой.
Лю-ли, лю-ли, лю-ли-бай,
Поскорее засыпай,
Засыпай, малышка Номи,
И прислушайся во сне.
— Может, ты перестанешь петь моей сестре? — ворчал Одед.
Он был еще мальчишкой, но обида и страх уже состарили его детское лицо ранними складками, наполнили силой его тело, наделили походкой взрослого мужчины.
Вечером Юдит укладывала их с Номи в постель и рассказывала им разные истории, но Одед все время ворчал, его злило, что она уделяет столько любви и внимания маленькой сестре.
Его голос звучал обиженно и глухо:
— Наша мама рассказывала нам интересней.
— Я не ваша мама, — Юдит сдернула одеяло с его лица.
Она посмотрела на него так, что этот взгляд он не забыл и поныне, и когда он описывает его мне сейчас, из его рассказа то и дело выглядывает осиротевший, обиженный и напуганный мальчик.
— Если ты хочешь со мной спорить, Одед, — сказала она ему, — так нечего прятаться под одеялом. Ты уже не ребенок. Вылезай оттуда и давай спорить всерьез.
И, увидев, что он вспыхнул от смущения и его раздражение как рукой сняло, погладила его потрясенную лаской щеку, сказала:
— Спокойной ночи, дети — и пошла в коровник, к своим коровам, в свою каморку, на свою постель, к своему ночному воплю.
— Пойди к ней, папа! — поднялась Номи однажды ночью и стала у кровати отца.
Моше отрицательно замотал головой.
— Я пойду с тобой, — сказала Номи. — Мы зайдем и спросим, почему она так кричит.
— Не нужно, — сказал Моше.
— Тогда я пойду сама.
Рабинович приподнялся на постели:
— Ты не пойдешь к ней. Никто не пойдет к ней. Взрослые люди плачут не для того, чтобы к ним подходили. Она немножко поплачет, и это у нее пройдет.
Но в одну из ночей Номи уже не смогла сдержаться. Она прокралась во двор коровника и ухватилась за трубу, подводившую воду к корытам, пытаясь разглядеть забившуюся в угол бледную фигуру с широко открытым ртом и глазами.
Тяжелая рука Моше закрыла дочери рот. Он поднял ее и прижал к себе.
— Она не должна знать, что мы знаем, — прошептал он ей в ухо и понес обратно домой.
Но стоило ему убрать руку, как слова разом вырвались из нее, словно стайка щеглов, с шумом выпорхнувшая из чащи.
— Вся деревня знает, папа! — закричала она. — И она сама знает, что все знают! Даже дети в школе говорят!
— Не важно, что говорят, — он снова закрыл ей рот рукой. — Важно только, чтобы она не видела, что ты туда приходишь.
— Они думают, что это ты с ней что-то делаешь! — клокотали у нее во рту слова, обжигая кожу его ладоней.
— Закрой рот, а не то я сейчас завяжу его тебе полотенцем! Вырастешь, тогда сама все поймешь.
Вопль оборвался так же мгновенно, как взлетел. Края разорванного им воздуха снова срослись. Какое-то мгновение еще видны были тающие шрамы, но и они тут же исчезли.
— Это как тело женщины, там, внизу, где не остаются никакие следы, — сказал мне Яков.
Он плеснул в бокал немного коньяку.
— Только роды оставляют там следы, — сказал он. — Но не любовь и не измены. И не мы, мужчины. Только в телах наших матерей мы оставляем следы, но не в телах наших женщин. Посмотри когда-нибудь туда, Зейде, ты уже большой парень. Посмотри, и сам увидишь. На коже лица и на коже рук остаются все отпечатки жизни. И на нашем сморщенном шмоке, на нашем кончике, на нем тоже ничего не стирается. Кто умеет читать, может прочесть на своем шмокеле, как в дневнике. Это мне когда-то сказал Глоберман. Как будто кольца на стволе дерева остаются там. Вот тучные годы, а вот тощие, вот имена, а вот времена. В Кинеретском море[42] есть такая скала с отметками — сколько воды было каждый год. Так и у нас. Ноу женщин, у них там, внизу, — ничего. Никаких знаков не остается. Там у них как сам Кинерет. Разве увидишь, какие бури на нем бывали? Разве увидишь в дневном воздухе те крики, которые подымались в нем ночью? Ты когда-нибудь видел? Так и там ты тоже не увидишь.
19
Подобно птенцу кукушки, Юдит теснила и выталкивала из его головы все другие мысли. Только о ней он способен был думать — о ней, и о ее крике, и о ее теле, и о ее телеге, плывущей в зелено-золотистом море хризантем, — и не мог понять, так он сказал мне, как это она может быть в двух разных местах одновременно: «И у Рабиновича во дворе, и у меня в голове».
Время от времени он встречал ее на улице или в центре деревни, кивал ей на ходу и терзал свое сердце наивными планами и детскими надеждами встретить ее в других обстоятельствах, в другое время и в другом месте.
И однажды Моше Рабинович пришел к нему во двор, попросил вывести для него двести цыплят и спросил, сможет ли Яков подождать пару-другую недель с оплатой.