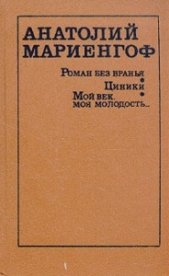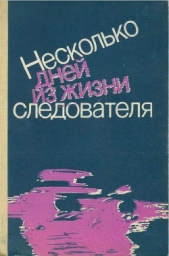Как несколько дней

Как несколько дней читать книгу онлайн
Всемирно известный израильский прозаик Меир Шалев принадлежит к третьему поколению переселенцев, прибывших в Палестину из России в начале XX века. Блестящий полемист, острослов и мастер парадокса, много лет вел программы на израильском радио и телевидении, держит сатирическую колонку в ведущей израильской газете «Едиот ахронот». Писательский успех Шалеву принесла книга «Русский роман». Вслед за ней в России были изданы «Эсав», «В доме своем в пустыне», пересказ Ветхого Завета «Библия сегодня». Роман «Как несколько дней…» — драматическая история из жизни первых еврейских поселенцев в Палестине о любви трех мужчин к одной женщине, рассказанная сыном троих отцов, которого мать наделила необыкновенным именем, охраняющим его от Ангела Смерти. Журналисты в Италии и Франции, где Шалев собрал целую коллекцию литературных премий, назвали его «Вуди Алленом из Иудейской пустыни», а «New York Times Book Review» сравнил его с Маркесом за умение «создать целый мир, наполненный удивительными событиями и прекрасными фантазиями»…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Деньги — ерунда, Рабинович! Деньги подождут! — сказал Яков, захлебываясь от счастья.
Он заторопился к своему инкубатору, разобрал его, сполоснул и продезинфицировал все детали, высушил их на солнце, а когда птенцы вылупились и инкубатор наполнился их писком, пошел к Рабиновичу — сказать, чтобы он приготовил курятник.
— Я принесу их завтра, — сказал он, а глаза его искали и умоляли.
Но Юдит не появилась, и Яков ушел ни с чем.
Назавтра он запряг повозку и привез цыплят в двух закрытых ящиках. Деревенские кошки обезумели от запаха и писка, и некоторые из них, словно по тревоге, ринулись во двор Рабиновича и осадили курятник в поисках дыр. Но Моше залил бетон под самые края сетки и вдобавок затянул каждое соединение железной проволокой, потому что знал, что голод делает кошачье тело гибким, а разбойная натура придает ему способность протискиваться в любые щели.
Бетонный пол был уже покрыт опилками, и Яков, наклонившись, осторожно вывалил на него содержимое ящика. Плотный, многоголосый желтый шар разом распался на десятки маленьких испуганных шариков и тотчас собрался снова с громким писком волнения и страха.
И тут вдруг скрипнула дверь. Цыплята разом умолкли, а Яков снова почувствовал знакомый озноб в затылке. Он понял, что это Юдит, которая вошла в курятник и стоит сейчас за его спиной.
Его сердце зачастило. Так случается со всяким человеческим сердцем, когда страх стискивает его желудочки и одновременно радость расширяет предсердия.
— А сердце, — ты знал это, Зейде? — сердце в эту минуту куда-то исчезает. И сразу же во всех руках и ногах начинается балаган. Тут дрожит какая-то мышца, там кости становятся как молочный порошок в воде, а кровь — она делается как суп, так она кипит и бурлит. Я просто не мог дышать, — вспоминал он. — Я просто задохнулся. Вот так человек узнает, что у него любовь.
— Как это Рабинович мог жить с ней в одном дворе и не сойти с ума? — удивлялся он. — Ты можешь это понять, Зейде? Видеть, как она работает, видеть, как она двигается, поднимает бидон с молоком или тащит ведра для телят, и все ее тело напрягается под платьем… Как это может быть, чтобы человек лежал у себя в доме и знал, что она в коровнике, за стенкой из дерева, и стенкой из воздуха, и стенкой из бетона? Ведь от этого можно с ума сойти!
В тот же вечер, когда Юдит доила, а Моше разгружал телегу с люцерной, он вдруг спросил ее, заметила ли, как смотрел на нее Яков.
— Ты ему понравилась, — объявил он.
— А нафка мина, — сказала Юдит.
— Ну-ну, — сказал Моше. — Тут уже будет весело. Вся деревня мечтает о жене Шейнфельда, а сам Шейнфельд смотрит на тебя.
Юдит закончила обмывать и массировать коровьи соски. Белые струи молока брызнули в ведро, вызванивая по нему высоким и звонким звуком, который постепенно становился все более глубоким и глухим.
Корова повернула голову и посмотрела на Юдит, потом высунула большой язык и шумно пришлепнула его к ноздрям, точно влажную пробку. Теплый, сладковатый запах поднялся в воздух и впитался в стены, и Юдит ощутила резь в глазах. Она оперлась вспотевшим лбом о скат коровьего брюха, а когда корова осторожно приподняла ногу, как бы намекая на некоторое неудобство, сказала ей: «Ша… ша…» — и погладила большое коровье бедро, мягко нажимая на ту точку, которая парализует намерение и способность лягнуть.
Годы спустя, когда мне было лет семь, она сказала мне, что лошадь получает любовь в обмен за свою любовь, собака получает власть в обмен за свою верность, кошка получает еду в обмен за свою красоту, а корова не получает ничего, кроме упреков и ударов. При жизни она отдает хозяину свое молоко, и свою силу, и своих детей, а под конец у нее забирают еще и мясо, и кожу, и рога, и кости.
— Они ничего не выбрасывают из коровы, — подытожила она.
А Яков сказал:
— Так всегда при большой любви. При большой любви всегда только один дает всё. И всегда ничего не пропадает даром.
Он лежал у себя дома — сознание дремало, сердце бодрствовало, а глаза были как две сверкающие дыры в темноте.
Вороны, ласточки, канарейки и воробьи сонно цепенели на деревьях. Сипуха, белая царица тьмы, расправила беззвучные крылья и выскользнула из своего укрытия.
И Ривка тоже не спала, потому что бессонница — это заразная болезнь.
— Спи, Шейнфельд, у меня уже нет сил, — сказала она. — Когда ты не спишь, я утром встаю совсем разбитая.
Но Яков молчал. Его кости скрипели, тело болело.
— И я сказал спасибо Богу, что глаза, если ты открываешь их в темноте, не отбрасывают на стену твои мысли. Только представь себе, Зейде, что она увидела бы мои мысли, а я увидел бы ее мысли. Как в кино или в волшебном фонаре.
Его ребра в груди, чувствовал он со странной ясностью, прижались друг к другу и, точно длинные зубья, вгрызались в плоть его сердца.
— Что с тобой в последнее время, Шейнфельд? — спросила самая красивая женщина деревни.
Но Яков не отвечал. Что толку любви от слов?
20
Однажды вечером дверь не открылась. Ощупывающая воздух рука не протянулась. Альбинос не появился.
Канарейки пели, как обычно, но Яков встревожился. Он немного подождал и в конце концов оторвал себя от забора Якоби и Якубы и прижался лицом к щелям пристройки. Потом постучал в дверь. Пение прервалось, и внутри воцарилась тревожная тишина. Яков не решился войти, уговорил себя, что счетовод еще спит, и вернулся домой.
Но на следующий вечер альбинос опять не появился, и Яков испугался, потому что тачка с бухгалтерскими бумагами стояла у двери, а пикап был припаркован на своем обычном месте, и его капот был холодным. Он позвал Деревенского Папиша, и тот без колебаний выломал дверь пристройки, где среди воплей, суматохи и вихря канареечных перьев лежал на полу голый счетовод — жирный, холодный и окаменевший.
— Он умер, — выпрямился над трупом Деревенский Папиш.
Он побежал за фельдшерицей, и Яков остался наедине с розоватым, начинающим сереть телом. В бесцветных волосах на окоченевшей белоснежной груди уже запутались капли помета, носящиеся в воздухе опилки, шелуха от съеденных птицами зерен.
В воздухе стоял запах смерти, и Яков, пытаясь найти утешение и спокойствие в привычных действиях, тотчас принялся наливать воду в маленькие фарфоровые поилки и рассыпать по кормушкам все зерна и крошки, которые сумел найти.
Потом пришли люди, отвечающие за такие дела, и торжественно вынесли тело.
Птицы, напуганные переполохом, поднявшимся было в их доме, теперь успокоились. Их пронзительные тревожные возгласы затихли. Последние пушинки, покачавшись в воздухе, осели на пол. Из клеток послышался робкий, постепенно приободряющийся щебет — поначалу будто обрывки возобновившихся тут и там разговоров, а в продолжение — громкий возмущенный хор. И к Якову, давно уже сидевшему в одиночестве на полу птичьего дома, вернулось давнее убеждение всех птицеводов, что дружное пение птиц — это знак признательности и любви. Такого же убеждения придерживаются царствующие правители, и воспитательницы в детских садах, и сержанты, ведущие строй новобранцев, и деревенские хормейстеры.
Он поднялся и пошел домой. Ривка поставила на стол ужин, но Яков ел рассеянно и неохотно и в конце концов отодвинул тарелку, не доев, вышел из-за стола и сказал, что нужно «пойти глянуть, что там с бедными птицами», не замечая, что уже второй раз за день повторяет выражение умершего альбиноса.
Он не обратил внимания на слезы жены и, высвободившись из ее объятий, взял раскладушку, отправился ночевать в пристройку для канареек и всю ночь лежал там в темноте, со страхом ожидая, что вот-вот заявится какой-нибудь наследник или родственник, размахивая подписанным завещанием и белыми ресницами, доказывающими родство, и потребует бедных птиц себе.
Но альбинос был одинок, и никто не появился. Деревенский комитет известил о его смерти через газету и обратился в английский мандатный суд в Хайфе[43], но даже тех родственников, которые имеют обыкновение объявляться лишь после смерти, тех двоюродных братьев, о которых даже сам умерший никогда не знал, — и тех не нашлось.