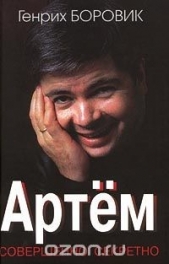а, так вот и текём тут себе, да (СИ)

а, так вот и текём тут себе, да (СИ) читать книгу онлайн
…исповедь, обличение, поэма о самой прекрасной эпохе, в которой он, герой романа, прожил с младенческих лет до становления мужиком в расцвете сил и, в письме к своей незнакомой дочери, повествует о ней правду, одну только правду и ничего кроме горькой, прямой и пронзительной правды…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хотя что там увидишь? Женщина давно привяла.
Однажды мы с ней остались наедине во всей квартире. За окном вечерело.
Я сидел на диване, она стояла опёршись спиной на шкаф с зеркалом и рассказывала мне как её везли эшелоном в Германию. Её и много других молодых девушек.
Под стук колёс вагон пошатывало на стыках рельсов. Страшила неизвестность того, что будет дальше и очень хотелось пить. Некоторые девушки плакали.
Эшелон остановился в поле. Охранники распахнули двери вагонов и что-то кричали – она ещё не знала немецкого.
Неподалёку в ложбине протекал ручей. Им жестами показали, что можно к воде. Они радостно бросились к ручью; пили, умывали лица.
Вдруг раздались крики и застрочил автомат – одна из девушек хотела убежать и её убили.
Обратно к вагонам их всех провели мимо убитой.
Она лежала на спине с открытыми глазами и была такая красивая.
В комнате сгустились сумерки, Гаина Михайловна стояла приложив ладони к дверце шкафа за спиной, опустив голову над убитой красавицей. Сейчас она была там и чувствовала себя той молодой Гаиной.
Мне жалко было убитую и жалко Гаину Михайловну, пережившую этот ужас. Хотелось что-то сделать или сказать, но я не знал что именно, поэтому встал с дивана и молча щёлкнул выключателем.
Свет люстры всё разбил – вместо испуганной девушки Гаины у шкафа стояла пожилая женщина с нелепой прорехой под воротником и злым взглядом из-под крашенной пряди волос.
А нечего чары ломать.
Так я оказался классически неприемлемым зятем.
Лично я особого антагонизма к тёще не испытывал, но не могу не отметить, что у бабушки твоей порою чувства брали верх над разумом.
Она была непримиримой антисемиткой.
Наверное, сказывались годы проведённые в зажиточной немецкой семье. Люди склонны подражать чувствам окружающих.
Снятый из деканов англофака Антонюк, тот самый, что вечерами партизанил с карандашом против фамилий Близнюка и Гуревича, так и остался в её глазах героем.
Её возмущало, что кругом одни евреи и возмущало безразличие мужа к её возмущениям против эскалации сионизма.
Развернёт перед носом газету и, когда уже никто не помнит о чём с ним говорила, отвечает:
– А? Ну, да…
И опять уткнулся. Опора в жизни называется.
В своей борьбе с сионизмом она даже ходила на приём к недавно назначенному ректору – открыть глаза на вопиющее размножение колен Израилевых по всем факультетам.
( … до смешного доходит – пойти к ректору НГПИ, одесскому еврею Арвату, – жаловаться на засилье нежинских евреев в институте!
Eine lächerlich Wasserkunst!.. или как там у Рильке?..)
Но жизнь не стояла на месте, живот у Иры рос.
По нему уже начали пробегать волны от твоих коленок и пяток.
Довольно крепкие были пятки – мой нос это помнит.
И вот однажды Ира испуганным голосом сказала мне позвать её маму. Та пришла в спальню.
– Что это, мама?
На безупречно гладкой статуэтной коже, внизу, под совсем уже большим животом наметились неровные бороздки.
– Затяжки.
– Это пройдёт после родов?
Гаина Михайловна, хмуро опустив голову, промолчала.
Началась экзаменационная сессия. Иру почти не спрашивали, сразу говорили дать зачётку.
Вечером 14 июня у Иры отошли воды и мы с ней пошли в роддом.
Там удивились, что роженица явилась пешком, отдали мне её одежду, а саму Иру увели в предродовую палату.
Там я уже не мог её охранять.
Одежду я отнёс домой и пошёл обратно.
Метров за двести от роддома у тротуара виднелся большой КАМАЗ-фургон с потушенными фарами. Только поверх кабинки светились, словно в гребне дракона, три горящие красноватой злобою глаза.
При моём приближении КАМАЗ вдруг прыгнул вперёд и из длинной лужи на мостовой грянула, поверх бордюра, волна грязной пены.
Я успел подпрыгнуть; пена с шипением уползла восвояси. Я приземлился на мокрый тротуар.
Убирайся, дракон, в своё логово – некогда с тобой возиться, сегодня у меня миссия поважнее.
КАМАЗ уфырчал в сторону Красных партизан.
В приёмной мне сказали, что нет ещё и что роды состоятся утром.
Роддом находился в длинном одноэтажном здании, вход с торца.
Сбоку от здания стояла шатрообразная беседка, как в стройбате, но пошире и без выемки-урны в центре.
Я зашёл в беседку, сел на брусья скамьи вдоль её круглой стенки и начал ждать.
В пустой узкой спальне без Иры мне делать нечего .
От ворот к приёмной прошла пара – мужчина вёл беременную. Обратно он ушёл один. Значит, не только мы так. Наверно, день такой.
Высоко над роддомом светила полная луна. Я выкурил косяк и она превратилась в далёкий выход из длинного туннеля с пульсирующими стенками.
Распахнутое настежь окно родильной палаты смотрело на беседку.
Что это родильная я догадался, когда там вспыхнул свет зачернённый мелкой металлической сеткой от комаров и раздались крики роженицы.
Это кричала не Ира, не её голос, наверное, та, что пришла второй.
Когда свет погас, я, на всякий, сходил в приёмную. А вдруг роды меняют голос?
Мне сказали, что нет ещё.
Косяков я больше не курил, тот первый остался единственным.
Когда снова раздались крики, я узнал родной голос – точно Ира!
Но в приёмной мне сказали, что нет ещё.
Они послали меня к окну предродовой, с обратной стороны здания.
Ира приподнялась к подоконнику и через полуприспущенные от боли веки недоверчиво смотрела, что я ещё тут. Она сказала мне уходить, что роды будут в девять.
Она не понимала, что я её охраняю от этого мира с его КАМАЗАМи-драконами и грубыми фельшерицами.
– Кердун на смене?
– Нет.
Я вернулся в беседку. Сидел обхватив себя руками от холода.
В белёсых предрассветных сумерках круг пола беседки пересёк вдруг непонятный тёмный шар с белым цилиндром спереди.
Только когда он скрылся в траве, я догадался, что это ёжик, чья мордочка застряла в стаканчике из-под мороженого.
Лучи солнца протянулись к белым облакам. Скоро согреюсь.
Из центра крыши ринулась вниз отвесная нить паутины с тяжёлым пауком на конце.
Едва тот коснулся пола, пространство беседки рассёк пропорхнувший поперёк воробей.
( … видеть я умею знаки; жаль не знаю как читать.
Ёжик, паук, птица.
Трое волхвов?..)
В родильной опять кто-то начал кричать. Когда крики стихли две женщины за сеткой позвали меня подойти.
Одна из них держала младенца в воздетых руках. Между ножек что-то болталось.
«Сын!»– успел я подумать.
– Поздравляем с дочкой!
«Пупок»,– поправил я сам себя.
Тёща встретила меня улыбкой и поздравлениями – она позвонила в роддом по телефону.
Я занял деньги у Тони и побежал на базар.
Тоня дала мне 25 руб., более мелких у неё не нашлось.
Я метался по базару, скупая букеты роз. Розы, мне только розы. Пока не кончились 25 руб.
Тогда я снова поспешил к роддому, таща этот шар из букетов.
Одноногий инвалид на костылях рядом с пятиэтажкой тёщи радостно мне улыбнулся – он знал куда я спешу.
Сестре в приёмной роддома пришлось позвать на помощь ещё двух, чтоб занести цветы в коридор.
Ира потом рассказывала, что она всё ещё лежала в том коридоре на каталке и розы разложили по всей простыне, но ненадолго, потому что в палату цветы нельзя.