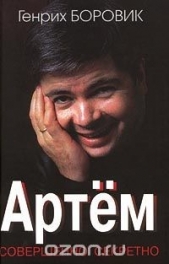а, так вот и текём тут себе, да (СИ)

а, так вот и текём тут себе, да (СИ) читать книгу онлайн
…исповедь, обличение, поэма о самой прекрасной эпохе, в которой он, герой романа, прожил с младенческих лет до становления мужиком в расцвете сил и, в письме к своей незнакомой дочери, повествует о ней правду, одну только правду и ничего кроме горькой, прямой и пронзительной правды…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вскрик Надьки из розетки привлёк его внимание, он вынул её вовсе, приник к образовавшемуся «уху Дионисия» и долго заполночь слушал последующие Надькины стоны.
Мы с ней не знали, что нас прослушивают, но даже и зная б не остановились.
На следующий день ребята из 71-й вернулись и ключ пришлось отдать.
В понедельник в умывальнике Надька была грустна и молчалива, но я сумел выпытать причину.
Марк Новоселицкий распустил на четвёртом курсе грязный слух, что Огольцов Швычу в умывальнике раком…
Я как чувствовал, что он к ней неравнодушен.
Иначе с чего бы так вслушивался во вжиканье зиппера на том дне рождения?
Ну, погоди, морда жидовская!
Во вторник он пошёл в душ, а когда вернулся с влажными ещё волосами и полотенцем через плечо, то в комнате застал одного только меня. Я запер дверь на ключ и сказал:
– Снимай очки, Марик. Я тебя бить буду.
Очки он так и не снял, а начал бегать вокруг коричневого стола с подсунутыми под него стульями.
Пришлось сдвинуть стол к тумбочке и ему не осталось места делать витки по орбите.
В закутке между подоконником, койкой и столом он стоял понурив голову, как Андрий, сын Тараса Бульбы – безропотный агнец готовый к закланию.
Я ударил его в подбородок, чтоб не повредить очки, и на повышенных тонах пообещал, что если он, блядь, ещё хоть одно слово про Швычу…
Когда я закончил нагорную проповедь, он с заискивающей улыбкой поправил свои очки и сказал:
– А здорово ты меня ебанýл, а?
( … мудрость веков, впитанная с молоком матери.
И, что характерно, на лету ухватил выражения из моей проповеди.
Способность к языкам у них в крови…)
В четверг, в конце свидания в отсеке умывальника, она задумчиво сказала:
– А ведь он правду говорил…
Меня заело, что я, типа, исполняю планы предначертанные Мариком.
Тоже мне – пророк Натан.
Но где выход?
Манна небесная явилась в виде студента первого курса музпеда.
В светлых ангелоподобных кудрях, сияя золотистой оправой своих очков, он спустился с высот пятого этажа на наш третий и дал мне ключ от свободной комнаты на ихнем. Аллилуйя!
Но почему?
Ведь я не просил и даже понятия не имел о существовании той комнаты. Да, осенью я давал ему гитару, но с тех пор мы не общались. Откуда он узнал?!!!
( … в те непостижимо далёкие времена я ещё не знал, что все мои удачи или радости, все взлёты и…
– ДА ЗАТКНИСЬ ТЫ ТАМ УЖЕ В СВОЁМ СПАЛЬНИКЕ!..)
И всё.
С тем ключом мы с Надькой перешли на ночной образ жизни, подымаясь на пятый, когда в коридорах уж по вечернему стихает шум жизни студенческого общежития, и спускаясь на третий в тиши рассветных сумерек.
Она стала, типа, первокурсницей.
Когда наш курс для обучения возили в Киев на экскурсию для иностранных туристов, она тоже присоединилась.
Гид в том автобусе говорил исключительно на английском:
– Look to your left… Look to your right…
В конце экскурсии он спросил:
– Do you have any questions?
Я до того втянулся в роль интуриста, что задал вопрос:
– Are you a Communist, Mr. Guide?
Он малость не ожидал, но ответил:
– I am a Candidate to the Communist Party Membership.
– OK. I see Comrade Guide.
Потом мы с Надькой сидели на скамье в скверике одной из улиц, что спускаются к Хрещатику.
Светило солнце, а вокруг него плавали облачка.
Мы с Надькой целовались долгими поцелуями.
Рядом сидел печальный Игорь Рекун и бросал кусочки печенья разномастным голубям, что шумно толпились на асфальте у наших ног.
Надеюсь, в тот день Киев почувствовал, что он тоже хоть и маленький, но тоже Париж…
( … почему меня так мучило моё сексотство?
Я ведь никого не закладывал. Кагебист даже вздыхал на мою безрезультативность.
И всё же чувство, что я пойман на крючок, стиснут обстоятельствами, из которых нет выхода, и постоянный страх, что моё стукачество откроется, оставались источником неизбывных внутренних мучений – «шестёрка», даже если и не капает, всё равно «шестёрка».
В то же время, оставалось чувство неловкости перед капитаном.
Особенно после того, как я не уважил его зимой…)
Капитан попросил продать ему мой кожух, чтобы он в нём ходил на охоту.
Короткий чёрный кожух из косматой овчины, отцовский, ещё с Объекта.
Кожух, на котором мы с Ольгой сидели на своей свадьбе, был частью моего «имиджа», вместе с чёрным пластмассовым «дипломатом» и неизменным полуцензурным ответом на все жизненные проблемы:
– А хули нам? Прорвёмся!
Продать кожух всё равно, что продать часть себя.
Капитану всего этого я не сказал, просто ответил, что не могу.
Настаивать он не стал, возможно, это просто была проверка моей готовности продать самого себя.
Но зато в мае я порадовал его по полной программе.
Вознаградил за все те пустопорожние доносы, писанные под его диктовку, что ничего особенного не замечено и не произошло.
Он диктовал, а я писал, чтобы накапливались бумажки с моим почерком за подписью «Павел» и чтобы я ещё глубже насаживался на крючок.
В мае после выходных Марик приехал очень оживлённый и, едва зайдя в комнату, объявил, что узнал в Киеве новую игру «в партии», которую надо попробовать – до того интересно.
Мы с Федей оторвались от игры в «дурака» на одеяле его койки, Остролуцкий присел на свою, и мы выслушали правила.
Суть игры, чтобы как бы начать историю заново, с лета 1917 года, когда ещё не было однопартийной системы, а всякие меньшевики, большевики, эсеры, анархисты; и каждый выберет себе партию по душе и будет доказывать остальным чем его партия лучше.
Наша комната 72 по популярности не уступала проходному двору и всем, кто заходил сюда, Марик с весёлым смехом повторял предложение поиграть в эту ролевую игру.
Илюша Липес, сам он и Остролуцкий сперва, по национальному признаку, назвались Бундом, но потом переметнулись в меньшевики и социал-демократы.
Заглянувший в комнату Саша Нестерук помахал своим чёрным шарфом и объявил анархию матерью порядка,
Мы с Федей объявили себя махновцами, чтоб посылать всех, кто помешает нам и дальше играть в «дурака».
Полтавчанин Яков стал, «безсумнiвно», представителем Украинской Центральной рады.
Поржали и разошлись.
Наутро никто уже не вспоминал и не вспомнил бы об игре в партии, если бы в тот день я сдуру не проболтался на встрече с кагебистом.
Капитан оживился и вместо обычных двух строк вымотал из меня целую страницу фамилий всех побывавших в комнате и кто за какую партию выступал.
Ему не понравилась концовка моего доноса – что игра сдохла к концу вечера, пришлось переписывать заново.
И – понеслась!
Ребят, даже кто и близко не был, начали вызывать на допросы в КГБ, записывать их показания – кто зашёл вторым, где сидел, почему объявил себя эсером?
Студенты с вытянувшимися лицами возвращались в общагу, пересказывали ход допросов, тревожно обсуждали возможный исход.
При однопартийной системе можно запросто и не получить диплом даже после четырёх лет обучения.
Через три недели состоялось общефакультетское собрание о том, что в нашей студенческой среде обнаружились нездоровые тенденции…
Представленный собранию капитан КГБ зачитал список участников нездоровой игры в партии (у меня отлегло, когда услышал и свою фамилию – не догадаются, что это я настучал).