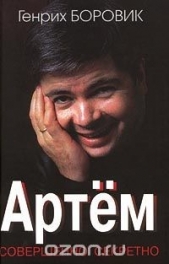а, так вот и текём тут себе, да (СИ)

а, так вот и текём тут себе, да (СИ) читать книгу онлайн
…исповедь, обличение, поэма о самой прекрасной эпохе, в которой он, герой романа, прожил с младенческих лет до становления мужиком в расцвете сил и, в письме к своей незнакомой дочери, повествует о ней правду, одну только правду и ничего кроме горькой, прямой и пронзительной правды…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наверное, у пьяных и впрямь есть свой ангел-хранитель, но тем превентивным ударом я выбил себе палец на руке и больше бить не мог.
Когда Квэк поднялся, поединок перешёл в борцовское единоборство.
Мы покатались по земле и после угрозы Вера Яценко, что она позовёт брата, или папу, мы покинули двор.
Идя в одном и том же направлении мы постепенно разговорились, затронули детали минувшей схватки и обсудили неоспоримые достоинства Веры.
К вопросу об Ольге мы не возвращались.
На Переезде он сел на «тройку», а я пошёл пешком через Вокзал и вдоль путей на улицу Декабристов, потому что у меня слегка кровоточило плечо, ободранное о шлаковое покрытие дорожки во дворе двухэтажки.
Шлак хорош от осенней грязи, но как татáми он занимает второе место после гаревой дорожки.
На следующее утро пришлось говорить родителям, что это я упал с велосипеда – традиционная отмазка, которая вызывает понимающую ухмылку спросившего.
( … наверное, ангелы-хранители тоже уходят на пенсию; через много лет Квэк умер традиционной украинско-мужицкой смертью – заснул в сугробе и замёрз в нескольких метрах от своей хаты.
Иногда мне кажется, что единственное место, где он ещё существует – это мои воспоминания о нём…)
Вскоре меня вызвали в отделение милиции рядом с Пятым магазином отчитаться в попытке самоубийства Ольги, про которую им сообщила «скорая помощь».
Я доказал, что соучастником не был и меня отпустили.
Мать моя собрала остававшуюся в доме одежду и обувь Ольги: осеннюю, зимнюю – всю. Получился изрядный тюк, который она обшила белым полотном для отправки почтовым вагоном.
Я попросил Владю помочь и мы потащили тот тюк вдоль путей на Вокзал для сдачи в багажное отделение.
Мы тащили его продев никелированную трубу от оконного карниза под верёвку, которой он был обвязан.
Тем же способом, как доисторические охотники, или дикари-аборигены носят забитую дичь.
Только мы несли в обратном направлении – прочь; потому что это была не добыча, а утрата.
В отделении я написал на полотне феодосийский адрес и получил квитанцию с указанием веса.
Когда мы вышли оттуда, Владя явно хотел мне что-то сказать, но сдержался.
Я всегда знал, что он тактичнее Квэка.
Есть мысли, которые лучше не начинать…
Труба карниза порядком прогнулась от нагрузки и я отбросил её в кусты, позади высокого перрона у первого пути – не тащиться же мне с ней к Ляльке.
Первого сентября на построении вокруг большого печального бюста Гоголя между Старым и Новым корпусом, ректор института, как всегда, объявил, что занятия начинаются для всех, кроме студентов вторых и третьих курсов, которые на месяц поедут с шефской помощью в село.
Второкурсники и третьекурсники всех факультетов, как всегда, закричали «ура!»
На следующий день пара больших автобусов повезли второкурсников по московской трассе до райцентра Борзна, а оттуда по ухабистой дороге в село Большевик, но последний километр одолеть не смогли – грязь оказалась слишком глубокой.
Студенты и с полдесятка преподавателей вышли из автобусов на обочину и по узкой тропе сквозь зелёные заросли высоких, мокрых после утреннего ливня стеблей кукурузы пошли в село, где им предстояло трудиться на уборке хмеля.
Многие тащили «торбы» – матерчатые сумки с продуктами питания взятыми с собою из дому.
Моя ноша полегче – гитара, положенная гладкой стороной грифа на плечо, да курево в карманах, поэтому прогулка была бы в кайф, если б не промокали кеды.
Впереди меня красный свитер, синие джинсы, чёрные сапоги и белая косынка-козырёк тащат свою «торбу».
Сам себе удивляюсь – достаточно, чтоб волосы были подлиннее моих, а бёдра пошире и поокруглее, как вот у этой вон впереди и – всё! Я сражён, поражён, лапки кверху и сдаюсь на милость победительницы.
– Девушка, у вас сапоги сорок пятого размера?
Надменный взгляд через плечо:
– Сорок шестого.
Каков привет, таков ответ.
Подъехал, конечно, не ахти как, но хорошо хоть ответила.
Обгоняя её, я оглянулся улыбнуться неприступно недовольному лицу и пошёл дальше.
У меня нет привычки подмигивать девушкам, хоть, говорят, что они это любят.
Большевик – это широкая пустая улица из полдюжины домов и отдельно стоящих строений покрупнее, что теряются в тумане и промозглой сырости позади деревьев, с листвы которых падают редкие тяжкие капли.
Все зашли в одноэтажную, полутёмную из-за ненастья на дворе, столовую с длинными столами под изношенной клеёнкой и с запертым фанерной створкой окном раздатки.
После затяжных переговоров между старшими преподавателями и местным руководством, студенты начали размещаться для предстоящего проживания в селе.
Четырёхкоечные комнаты в двух деревянных двухэтажных зданиях предоставлены студенткам, а студентам отвéден большой зал на втором этаже клуба, тоже деревянного.
Каждому выдали матрас с подушкой и солдатским одеялом и по паре простыней.
Поднявшись с этой скаткой в клуб, я поразился простоте дизайна общей спальни.
Невысокий сплошной настил из дощатых щитов представлял собой знакомые мне нары – типа, схлопотал месяц «губы».
Тридцать, или около того, матрасов расстелены поверх щитов вплотную друг к другу; поэтому, для отдыха, на них надо вползать с конца на четвереньках.
К счастью, недалеко от входа стоял высокий биллиардный стол с изношенным зелёным сукном.
Заняв биллиардный стол, я не блатовал и пахана из себя не строил, а просто обратил внимание, что все биллиардные шары были, как один, жестоко выщерблены, словно надкусанные яблоки – играть такими невозможно, а значит и стол без надобности.
Так что спал я в четырёх метрах от общих нар, на полметра выше общей массы и без храпящих под ухом соседей.
Стол оказался настолько широким, что оставалось место положить рядом с матрасом обломок лакированного кия, потому что в студенческой среде ходили глухие слухи о недоброжелательных настроениях среди местной молодёжи.
Питание в столовой было трёхрáзовым, студенты воротили от него нос, но я их не понимал – хавка, как хавка.
На следующее утро мы вышли на уборку хмеля.
Он рос рядами трёхметровых стеблей достигших до проволок натянутых над полем.
Сплетение тёмно-зелёной листвы нужно сдёрнуть наземь и обобрать с него гроздья светло-зелёных мягких шишечек.
Когда шишечки наполнят неглубокую плетёную корзину с двумя ручками, как у банной шайки, их надо отнести в ящик на весах.
Преподаватель-весовщик запишет в тетрадку твои килограммы, потому что труд этот будет оплачен, после вычетов за питание и постель.
Вот только, расценки за кило собранного урожая оказались настолько низкими, что несложный арифметический подсчёт убивал весь трудовой энтузиазм на месте и наповал…
Конечно, оставались ещё такие стимулы, как звонкая разноголосица задорных молодых голосов над полем, и такие разнообразные, но, каждая по своему, привлекательные формы студенток.
Однако, мои, привыкшие к лому и струнам, пальцы наотрез отказывались участвовать в этом, по-китайски усидчивом, крестьянском труде.
Мой первый день работы на плантации хмеля стал также и последним.
В дальнейшем я исполнял разные работы: пару раз ездил в Борзну грузчиком продуктов для столовой, и настилал пол из обрезков досок на коровьей ферме, и пилил дрова для местной бабы в обмен на мутный крепкий самогон, и… и… ну, пожалуй это всё, но, вобщем, тоже немало.