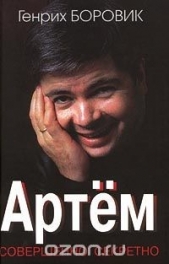а, так вот и текём тут себе, да (СИ)

а, так вот и текём тут себе, да (СИ) читать книгу онлайн
…исповедь, обличение, поэма о самой прекрасной эпохе, в которой он, герой романа, прожил с младенческих лет до становления мужиком в расцвете сил и, в письме к своей незнакомой дочери, повествует о ней правду, одну только правду и ничего кроме горькой, прямой и пронзительной правды…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обидно было, но я видел, что он прав.
Плюнуть на всю эту шрамотень я не мог не потому, что гордость заела, а просто вошёл во вкус борьбы с неподатливостью славянских слов для полного выражения того, что я смог уразуметь в бисере языка Моэма.
Борьба оказалась настолько увлекательной, что я отвёз гитару обратно в Конотоп.
Дошедшие до меня год спустя слухи о том, будто, приезжая по субботам в Конотоп, я бросал свой чёрный пластмассовый «дипломат» в прихожей, а сам сразу отправлялся по блядям и не обращал внимание на то, что моя жена гуляет регулярно и напропалую, были сильно преувеличены.
Наши с Ольгой отношения оставались неизменно бурными и приносили чувство глубокого удовлетворения.
Кроме того раза, когда я устроил хронометраж.
Мой сожитель по комнате Марк Новоселицкий вдруг ни с того, ни с сего меня спросил какова продолжительность моих половых актов с женой и я, навскидку, ответил: минут десять-пятнадцать.
Он начал подымать меня на смех, мол, такое невозможно и мы поспорили.
Ольга не поняла зачем я притащил в спальню будильник из кухни, но я не стал ей пояснять. Его цоканье по мозгам довело до плачевного результата.
Вернувшись в воскресенье в Нежин, я честно признался Марику, что набежало всего пять минут и он победно расцвёл.
Но в остальные разы всё было как надо – минуты теряли всякий смысл.
Перед этим мы шли в Лунатик и тесно танцевали медленные танцы, а быстрые – размашисто.
Она в любом была хороша.
Наблюдали пару драк на паркете – Лялька называл их гладиаторскими боями – и выходили из зала в неосвещённый коридор библиотечного крыла.
Приопёршись на высокий подоконник молчаливо чёрного окна за спиной, мы с Лялькой курили травку, постепенно и всё глубже постигая аквариумную суть интерьера вокруг; а Ольга курила свои сигареты с рыжим фильтром.
Всё становилось ништяк и мысли о моём сексотстве в Нежине отступали на самое дно аквариума.
Так что супружеский долг я исполнял сполна, а когда Ольга сказала, что беременна и что за аборт муж должен сдать в больнице стакан своей крови, я беспрекословно отправился туда, хоть, вроде, и предохранялся.
В кабинете по переливанию крови меня обули в белые бахилы и уложили на покрытый холодной клеёнкой стол.
Меня поразило выражение глаз тамошних работниц, вернее всякое отсутствие его, глаза у них словно задёрнуты тусклой ширмой, как у уснулых рыб.
С гибким шлангом и иглой у него на конце, они подступили ко мне, стараясь воткнуть её в вену руки, чтоб кровь потекла через шланг.
С трёх попыток, им так и не удалось проколоть вену, та упруго упорствовала и откатывалась от введённой под кожу иглы.
От изумления они сжалились и поставили отметку в бумажке, будто кровь сдана, и тот аборт обошёлся бесплатно.
Отступать я не мог, да и не хотел.
Мне пришлось изучить ещё одну письменность – похожую на арабскую вязь, но поразмашистей – почерк Жомнира, которым он делал пометки между строк моего перевода.
И пришёл день, когда он поднял кустистую бровь и сказал, что вот теперь – ничего и перевод можно поместить в следующем «Translator’е».
Яша и Федя, стоя перед новым номером «Translator’а» с рядочком машинописных страниц моего перевода, в изысканно вычурных выражениях поздравили Жомнира с открытием нового таланта на ниве украинских переводов со столь истинно украинским окончанием фамилии – ОгольцОВ.
Жомнир отвечал попроще – не его вина, что щирi украинцы ДемьянКО и ВеличКО за все четыре года так и не почухались.
Пришла весна, а с нею – самая безоблачно чистая любовь моей жизни.
Все её называли Швычей, а я – Надькой.
Она возродила во мне веру, что женское начало, всё-таки, ещё живо в этом затруханном цивилизацией мире.
Мы любили друг друга.
Упивались любовью.
Любовь ради любви и есть чистая любовь, она же любовь в чистом виде.
С чего это я расписываюсь за обоих? Какое тому основание?
Очень просто – Надька была девственницей, ещё неискушённой в притворстве.
Так может я снова забыл сказать что женат?
В этом не было необходимости – она заканчивала четвёртый курс англофака и жила на том же самом третьем этаже общаги.
Редкостное сочетание: девственность и четвёртый курс.
…немало есть на свете, друг Горацио, такого,
что не снилось нашим мудрецам…
Ребята-четверокурсники гуляли чей-то день рождения в комнате напротив нашей, позвали и меня.
Мы с Надькой оказались сидящими на одной койке, и когда кто-то выключил свет, я чисто рефлективно расстегнул молнию спортивной курточки на ней.
Она мгновенно задёрнула её обратно. Когда включили свет – всё чин-чином, даже полиция нравов не придерётся, но Марик слышал как вжикал зиппер в темноте – вниз-вверх, и начал насмехаться.
Надька ушла, тем всё и кончилось.
На следующий день она встретила меня в коридоре общаги всё в том же спортивном костюме, заговорила и улыбнулась.
О, улыбка Надьки – это что-то!
Эти ямочки на щеках, эти чёртовы искры в чёрных глазах!
Она отвечала всем параметрам украинской красотки.
Чёрные гладкие волосы до середины спины; дуги бровей на круглом лице; налитые груди; округлые плечи плавно переходили в руки, упёртые в крепкий стан над роскошными бёдрами тренированной пловчихи.
Потому что она занималась именно этим спортом.
И, спрашивается, зачем я ей?
Да, очень просто – в то лето она выходила замуж.
Не за меня, конечно, а за какого-то лейтенанта какого-то военного училища, который после свадьбы должен увезти её к месту своей службы.
Времени оставалось не так уж много и мы не хотели его терять. Мы любили любить друг друга и хотели ещё и ещё.
Но это потом, а сперва нужно было разобраться с её девственностью.
Две первых встречи мы провели в отсеке умывальника – с одним окном, одной раковиной, одним подоконником – зачем-то отгороженными одной дверью от остальных раковин.
Меблировка скудная, но для начальных стадий узнавания друг друга и такой достаточно, тем более, что дверь отсека открывается внутрь.
А затем ребята из 71-й комнаты куда-то уехали, оставив ключ Жоре Ильченко.
Вообще-то, он жил на квартире, но кто откажется от ключа свободной комнаты в общаге?
Вот только ключ они передали не из рук в руки, а оставили висеть на гвоздике возле вахтёрши в вестибюле.
Не знаю как до меня досочилась вся эта информация, но повторного приглашения к такому подарку судьбы я ждать не стал и снял тот ключ пораньше Ромы.
Вечером мы с Надькой уединились в комнате 71 и заперлись изнутри.
Когда стуки в дверь комнаты прекратились и в гулком коридоре утихли крики Жоры Ильченко:
– Кто-нибудь видел Огольцова?!
Надька начала постепенно снимать свою спортивку, сопровождая стриптиз эпохи застоя припевкой из довоенной кинокартины «Цирк»:
Тики-тики-дуу!
Я из пушки в небо уйду!..
хотя немного нервничала.
Мы легли на койку у окна.
По ту сторону двойной перегородки из гипсовых плит находилась моя комната, 72. Там под окном стояла койка Феди, рядом с вывалившейся из стены розеткой.