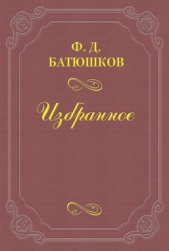Записки Анания Жмуркина
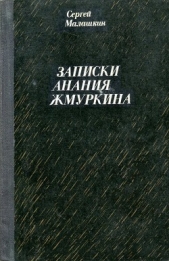
Записки Анания Жмуркина читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тоска Марии Пшибышевской о родине, — эту тоску я вижу на ее лице, в ее глазах, — вероятно, понятна и Прокопочкину, как и мне. Я посмотрел на старшую Гогельбоген, потом на младшую. Они сидели на стульях у койки монашка, высокие, красивые, в коричневых шерстяных платьях, в белых батистовых фартуках и косынках. У них блестящие карие глаза, но прохладные, без лучей. На лицах негреющие выражения — ясный холодный день бабьего лета.
— Все разрушено… я бежала по горящим развалинам… — рассказывала тихим, хрипловатым голосом Мария Пшибышевская, — одни костелы и церковки белели на моем пути… из развалин и пепла городов и сел.
— Ишь ты, — удивился Первухин, — знать, германцы не погасили в себе еще божью искру. — Он остановил растерянный взгляд на мне, но тут же опустил его и, вздохнув, изрек обидное: — Нынче твои глаза, Жмуркин, смеются. Да, злой ты человек… — И, помолчав, утвердительно прибавил: — И злющий… и насмешливый.
— Верно, — подхватил Гавриил. — Потому Жмуркин и злой, что божья искра не теплится в нем. Вместо нее дьявол рогатый сидит… Это он смеется в его глазах.
Синюков улыбнулся. Мария Пшибышевская подняла большие серые глаза и внимательно поглядела на меня. Монашек перекрестился, озираясь на сестер Гогельбоген. Я молчал; да и что я мог возразить на грубые и глупые его слова и Первухина?
— Искра божия, — прохрипел Семен Федорович, молчавший все время. — Надо щадить на войне не костелы и церковки, щадить надо деревеньки и несчастных жителей — женщин и детей. Эти праздные — церковки и костелы — здания никому не нужны.
— Не кощунствуй, Семен Федорович, — посоветовал Прокопочкин, и его голубые глаза еще больше заслезились. — В каждой иконе… в каждом костеле… а на изображениях икон — бог или богоматерь… Подумай, что говоришь!
— Бог бессмертен, — возразил громче, осипшим голосом Семен Федорович. — О бессмертии бога мне говорил не один раз священник, когда я учился в приютской школе. А раз бог бессмертен, то ему, как я думаю, не страшны русские и немецкие пушки. Ему, значит, все эти снаряды и пожары как с гуся вода. Ему, богу-то, ничего не сделается, если даже ударит его какая-нибудь «берта», — заключил глубокомысленно Семен Федорович, кашлянул и натянул одеяло до острого, как кочедык, подбородка.
Раненые опустили головы от тяжести его грешных слов. Сестры беспокойно вздрогнули и поглядели друг на друга. У монашка отвисла нижняя губа. Прижав раненую руку к груди, он закатил глаза к потолку. Игнат ухмыльнулся на слова Семена Федоровича и сунул тетрадку под подушку. Стешенко побледнела, казалась серой. Шкляр вскочил с койки, надел халат, поправил на груди георгиевские медали и кресты и выбежал из палаты. Наступила тишина. На улице, за высокими светлыми окнами, с лязгом и гулом пронесся трамвай, светило бледное солнце, искрились снегом крыши домов.
— Гореть тебе, еретик, за такие слова в аду, — не отрывая глаз от потолка, прошипел Гавриил.
— Ну и что ж? — сказал раздражительно Семен Федорович. — А ты, инок божий, с удовольствием будешь подкладывать дрова под меня… в огонь… Будешь, а?
Монашек побледнел, перекрестился, возразил:
— Ад в преисподней. Рай на небесах. Я буду высоко, в сонме ангелов и святителей церкви.
— Эх, Гаврюша, — вздохнул Семен Федорович, — до чего же ты глуп! Вот если б твоему богу оторвало ногу, как мне или вон как Прокопочкину… — Он запнулся от волнения и немножко помолчал, а потом со стоном пояснил: — Какая сатанинская преисподняя может сравниться вот с адом моих душевных и физических мук? Разве ты не видишь, какой огонь палит меня? От этого огня уже давно мои глаза и тело стали мертвыми.
— Семен Федорович, замолчи, — всхлипнул Прокопочкин. — Замолчи, а то зареву белугой. Сестрицы, — обратился он к сестрам, пораженным словами Семена Федоровича и сидевшим неподвижно, с испуганно-растерянными лицами, — хотите послушать сказку? — Он махнул ладонью по плачущим глазам и задержал ладонь у лба, чтобы раненые и сестры не видели его слез, а видели одну нижнюю часть его лица, всегда улыбающуюся.
Сестры пришли в себя, немного оживились от его предложения, повернули лица к нему.
Прокопочкин спросил:
— Можно начинать?
— Пожалуйста, — попросила глухо Нина Порфирьевна, и на ее пухлых и нежных щеках загорелся румянец. — Чур, только новую, да посмешнее!
— Чур, сестрица, — подхватил Прокопочкин, не отнимая ладони от верхней части лица. — Я ведь никогда не рассказывал вам одну сказку два-три раза. У меня их столько в памяти… Значит, смешную?
Я стал смотреть на Прокопочкина: он держал кисть руки на верхней части лица, плачущей… улыбался нижней.
— Вспомнил… нашел смешную… — проговорил он. — Слушайте. — И начал: — Давно-давно жил один солдатик. Прослужил он двадцать пять годков и получил отпускной билет. Отслужил, значит. Завязал в узелок шильце и мыльце, накинул на плечи шинель и отправился домой, к родителям. Долго шел. Шел полями, лесами. Сильно устал, а до дома еще далеко. И вот подошел он к одной деревне, постучал в окно крайней избушки: «Эй, живой человек, пусти переночевать». — «Заходи, — отозвались ему из окна. — Спать можешь сколько угодно на полатях, а кормиться у нас нечем. Сами, как видишь, голодные». Снял солдат сумку, вынул краюшку хлеба, положил на стол и сказал: «Ешьте досыта». На другой день солдатик отправился дальше. Идет легко, посвистывает. Идет и в небо поплевывает, а оно синее-синее. Вдруг навстречу нищая. Сухая, ободранная. «Помоги, говорит, хлебцем старушке. Дай хоть кусочек малый». Солдатик ощупал углы сумки и не нашел ни одной крошки. И в карманах шинели ни крошки, только пятак нащупал. «На, бабушка, пять копеек, купи на них хлеба и поешь».
Старушка поблагодарила его и отдала ему свою сумку. «Возьми, — сказала она, — моя сума-то будет полегче твоей. С нею с голоду не помрешь и из лютой напасти вылезешь».
— Имела такую суму и просила милостыню, — заметил скептически Первухин, — что-то не вяжется у тебя, Прокопочкин.
— Не перебивай, Первухин, — попросила Нина Порфирьевна. — Потому и не вяжется, что он рассказывает сказку, а не правду.
— Совершенно верно, сестрица, — смутился Первухин. — Вы меня простите, а я больше не стану перебивать сказочника.
— Солдатик принял суму от нищенки и зашагал дальше. Шел-шел, и устал, и поесть захотел. Хлеб отдал на ночевке голодным, пятак нищей отдал. Достал кисет — табаку на цигарку не хватило. Сел солдатик под кустик у дороги, затылок почесал и вспомнил про суму старухи. «А хорошо бы, — сказал он, — если бы в этой суме нашлись хлеб, бутылка водочки и кисет с табаком», — и прикоснулся рукой к суме, а из нее как выскочит парнишка: «Чем могу служить тебе, служивый?» Шустрый такой, остроглазый. Ну прямо бестия! Солдатик сильно обрадовался ему, сказал: «Давай сюда стол и стул. На стол хороших харчей, водки штоф да махорки крепкой». Не успел солдатик сделать заказ, как появился стол, стул, чашка с жирными кислыми щами, тарелка свинины жареной, штоф водки, стаканчик к нему и кисет с табаком. Солдатик наелся, досыта, накурился — и опять ладонь на суму: «Убирай. Я сыт, пьян, и нос в табаке». Сразу на столе ничего не стало. Не стало стола и стула.
Парень прыгнул в мешок. Солдатик поднялся и, покачиваясь, бодро зашагал и веселую песню запел. Шел-шел он и пришел в город. Прослышал он на постоялом дворе, что у царя есть красавица дочь. «Что ж, — сказал он себе, — надо сходить к нему и поглядеть на его дочку. Может, я ей понравлюсь, и она выйдет замуж за меня». Пошел. Подходит к воротам царского дворца, а его остановили часовые, не пускают: «Куда прешь, немытая харя?» Один даже в шею дал. Солдатик ударил ладонью по суме. Парень выскочил из нее. «Какую службу прикажешь нести, служивый?» Солдатик приказал ему: «Вот они не пускают меня к царю. Дай каждому по усам, да не очень». Парень каждому часовому сунул кулаком в рыло. Часовые, как поленья, попа́дали. Вошел солдатик во дворец. Царь увидал его и спросил: «По какому делу, братец, пришел?» Солдатик ответил: «В гости к тебе пришел. Пришел дочь твою красавицу за себя сватать». Царь выслушал его и сказал: «Три дня гости у меня. Если кушанья придутся тебе по вкусу, тогда и дочь выдам за тебя». Солдатик согласился. Царь велел слугам посадить его в тюрьму, а вместо харчей поставить кадку воды и его стал угощать ею. Солдатик просидел день в тюрьме, просидел второй — и ничего, никакого горя. Ударил ладонью по суме — кушанья разные, водка и напитки, сигареты тонкие на стол. Солдатик пьет, ест и курит. Словом, сидит в полном удовольствии. Царь послал лакея спросить у него: доволен ли он царским помещением и угощением? Солдатик ответил царскому лакею: «Передай, братец, царю, что я весьма доволен. Пусть он сам придет и вместе пообедает со мной и выпьет стаканчик водочки». Пришел царь в тюрьму. Ударил солдатик рукой по суме, сказал: «Самых лучших вин и харчей! Чтобы стол ломился от них». Выскочил из сумки парень и ментом кушанья и вина поставил на стол. Ест царь и дивится: «Черт знает что такое! Ничего в жизни вкуснее этих кушаний не едал. Да и вин нигде таких хмельных и сладких не пивал». Наевшись и напившись, царь икнул и сказал: «Ладно, служивый. Свою дочку-красавицу отдам за тебя. Но раньше ты должен проспать одну ночь в новом дворце и прогнать из него гостей. Они мне очень надоели». Солдатик согласился. «Почему не переспать в твоем дворце», — решил он про себя и ответил: «Это можно», — и тут же отправился во дворец. Его накрепко заперли: двери на замки и засовы железные, окна ставнями закрыли. Солдатик начал укладываться спать. Вдруг — шум, гром, топотня копытная, визг поросячий, вой шакалий. Не успел он глазом моргнуть, как в залу с ветром ворвались рогатые и мохнатые. От них стало черно в зале. Главный черт сказал солдатику: «Здрасте, служивый. Зачем сюда, в наш дворец, пришел? Сейчас же убирайся, а то мы тебя растерзаем». Солдатик рассмеялся, ответил: «Ах, бесячья сила, какая муха тебя укусила? Как посмел так говорить со мной? — И он ладонью прикоснулся к суме: — Дай, слуга, кушаний и водочки, чтобы подзаправиться я мог». Выскочил парень из сумы, собрал ужин — кушанья и вина поставил на стол. Солдатик стал кушанья есть и вина попивать, а черти с завистью глаза лупят на него, в рот ему заглядывают. Видно, что им невмоготу стало смотреть, как пьет и ест, закричали: «Служивый, не продашь ли нам эту суму?» Солдатик не торопясь проглотил кусок курятины, запил его вином, обтер усы салфеткой, ответил: «Сума эта заветная, непродажная. Вот если вы, черти, все разом влезете в нее, я вам ее бесплатно отдам». Черти, конечно, обрадовались и согласились, стали уменьшаться, стали не больше мошек и полезли в суму. Залезли. Ни одного во дворце не осталось. Солдатик завязал суму, подошел к изразцовой печке и начал чертей колотить об нее. Бил, бил чертей до тех пор, пока они не перестали кричать. «Служивый, пусти нас на волю! Мы больше не станем завидовать твоим харчам и питью», — взмолился какой-то черт. «А-а-а, — рассмеялся солдатик, — опять голос подали?» Тут он взял двухпудовую гирю и стал ею давить чертей в суме, приговаривая: «Будете мешать мне когда-нибудь или нет? Будете разные пакости мне устраивать или нет?» Взял суму и вытряхнул из нее чертей за окошко. Опомнились черти на земле и разбежались, кто куда мог, и больше не показывались в этом дворце. Царь был уверен, что черти задушили солдатика, который вздумал быть его зятем, и спокойно завалился в мягкую царскую постель и тут же заснул. Утром — царь только что проснулся — солдатик пришел во дворец и прямо к царю: «Службу царскую выполнил. Отдавай красавицу дочку за меня замуж». Царю не хотелось отдавать дочь замуж за него, но делать было нечего, надо отдавать, так как он стал сильно бояться его. «Хорошо, — согласился царь, — пусть, служивый, будет по-твоему. Я согласен». Но солдатик раздумал жениться, ответил: «Не хочу, царь, жениться сейчас на твоей дочке. Хочу раньше родителей проведать и три года погулять, а потом, если охота будет, приду свататься к тебе за твою дочку-красавицу».