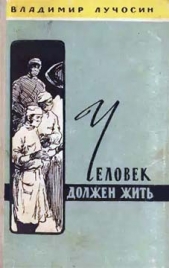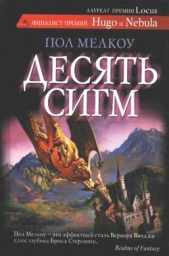Человек в степи
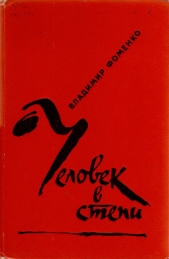
Человек в степи читать книгу онлайн
Художественная сила книги рассказов «Человек в степи» известного советского писателя Владимира Фоменко, ее современность заключаются в том, что созданные в ней образы и поставленные проблемы не отошли в прошлое, а волнуют и сегодня, хотя речь в рассказах идет о людях и событиях первого трудного послевоенного года.
Образы тружеников, новаторов сельского хозяйства — людей долга, беспокойных, ищущих, влюбленных в порученное им дело, пленяют читателя яркостью и самобытностью характеров.
Колхозники, о которых пишет В. Фоменко, отмечены высоким даром внутреннего горения. Оно и заставляет их трудиться с полной отдачей своих способностей, во имя общего блага.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы принимаемся за свинину. Логушов ест сразу всеми зубами и вытирает губы куском газеты.
Матвеич бросает лузгу в топку, отчего в боровке, вмазанном в стену, явственно гудит пламя. Перед поддувалом на полу набит лист жести, на него просыпается зола, и огненные червяки ворочаются, дышат в ней. Налившиеся с мороза концы пальцев зудят и ноют, резкая дрожь пробегает по спине.
— Это холод выходит снутри, — объясняет Матвеич.
Наевшийся и разомлевший от печи и лампы Логушов расстегивает ремень, тянет через голову гимнастерку. Даже в одной сорочке, тесной ему в груди и у шеи, он широк и плотен. Он по-домашнему зевает, жмурясь на лампу.
Из сеней доносится топот: кто-то обивает сапоги, и в комнату вваливается высоченный худой человек.
— О-о, кузнец! Здорово, Михаил! — расплывается Логушов.
— Здорово! Где тебя черти носили?.. Полдня ищем.
В длинных руках кузнеца вымазанная мазутом высевная трубка от конной сеялки. Он замахивается трубкой на Логушова.
— Уже уширили? — увертывается тот. — Да стой! Покажь…
Кузнец отодвигает руку Логушова, говорит Матвеичу:
— Домой собирался, а у тебя свет. Вот и заскочил…
— А это что принес?
— Его ж, Логуша, в окне увидел, вернулся — пробу захватил. Мистеру заказчику!..
Он поворачивается к Логушову:
— Смотри уж, на. Выкрути огонька больше.
Осмотр длится долго.
— Тэ-эк… А здесь как семечко пойдет?
— Так и пойдет. Тут же на конус делаем, а будешь абрикосу пускать, шплинтик крутни — и дырка ширьше.
— Да нет! Эх, чудак ты… наклепай вроде козырьком.
— Чудак петух. Знаешь!.. — бросает шутить кузнец, лично сам примеряет трубку глазом и, должно, убедись, что Логушов прав, тяжко вздыхает: — Ох, и осточертел ты мне со своими лесами!..
Громыханье и хлопанье за окнами слиты в непрерывный гул. Ветер напирает на стену дома, слышно, как скрипят доски школьной веранды.
Матвеич выходит глянуть, что на дворе, и, вернувшись, останавливается перед нами. На его ладони — вырванный с корнем мертвый кустик озимой пшеницы.
— С землей пошло, — говорит он. — Озимку несет!..
Мы набрасываем одежду и выходим. Сени пронизывает насквозь, запертые школьные ворота вгибаются внутрь и трещат в петлях.
Должно быть, далеко вверху прокаленное морозом небо чисто, и в зените светит луна, потому что все подернуто желтоватой мглой. Снег, перемешанный с землею, поднятой где-то с полей, идет высоко над крышами домов, хвосты песка растянулись в воздухе, и среди них, будто пунктиры, мелькают черные точки и черточки. Это летят кусты озимой пшеницы. Они падают возле школы в свете окна, мелькают на земле у наших ног, на ступеньках крыльца, на перилах. Матвеич растерянно зачем-то собирает их…
— Пойду! — выкрикивает Логушову кузнец и, с головой запахнувшись в тулуп, длинный, согнутый, скрывается в замети.
Кустики летят. На школьной крыше, словно под ногами бегущих людей, лязгают Железные листы, пыль вертится под застрехой, запорошенные глаза невозможно ни руками, ни воротником загородить от ударов.
Мы возвращаемся в комнату.
— С пятого участка пшеницу несет, — говорит Логушов сторожу.
— С пятого, — подтверждает сторож, — там жа бугры…
Логушов, сняв капелюху, трет белесую, остриженную под машинку голову, сидит у печи, малиновой от огня, веющей горячим воздухом.
Свет лампы падает на составленные с окон консервные банки с цветущими фацелиями. Некоторые банки, наверное особо ржавые, ребята обернули крашеными бумажками. Старый еж, подобрав под себя тряпку, спит в ящике, на котором наклеен ярлык: «3-й класс «А». Сбоку, в стеклянной коробке от автомобильного аккумулятора, без земли растет стебель кукурузы. Белые длинные его корни распущены в воде, должно быть сдобренной солями.
Логушов морщится, вслушиваясь в шорох, посвист, удары, грохоты ветра.
— Цацкаемся с ним! Насеять бы, — говорит он, — весь план леса сразу — уже не то было б!..
Видать, от жара печи и от жара близкой лампы ему душно, он стягивает даже сапоги с портянками.
Сторож методически забрасывает совком в поддувало подсолнечную лузгу. Мгновение лузга лежит темная и вдруг сначала с краев и затем враз вся активно вспыхивает, и отблески бегут по полу, освещают стены и потолок.
Говоря, Логушов всякий раз наклоняется вперед, приближаясь лицом к самой лампе. От прилива крови резче проступают веснушки. Крупные, набрякшие в тепле после морозного ветра губы оттопыриваются. Слух привык к грохоту за стеной. Лишь изредка на мгновение оглушающая тишина — и снова царапанье по стеклу. От печного боровка тянет гарью, внутри озабоченно урчит пламя; чувствуешь, как оно идет к трубе под гладко обмазанными глиной кирпичами.
Физиономия Ивана Евсеевича лоснится, оплывает истомой, он кулаком подпирает щеку, но тело берет свое, и щека непрерывно соскальзывает.
— Считают, — говорит он, — что лес в степях — дело колготное: то, мол, акацию к дубам подсаживай, то подрезай эту акацию, чтоб молоденькие дубки не душила… — Осоловевшие его глаза яснеют, опять становятся широкими и голубыми. — Ну какая здесь колгота? Все посадки идут прямой линией. А в косовицу пустил комбайн — он идет, снимает хлеб и заодно краем хедера верхушки акаций… Так и пошел, па-ашел, сколько глаз видит!..
Логушов мечтательно, точно сквозь стену, смотрит куда-то, чуть приоткрыв рот.
— Значит, все рассчитано, Иван Евсеич?
— Да называйте меня Ваня… — мигает он. — Ну да, рассчитано! Вот схемка у меня.
Он достает из стянутого красной резинкой бумажника засаленный листок и, жмурясь на огонь в лампе, крутит в ней сломанное колесико, пытается прибавить фитиль. Руки Логушова большие, с уже выступившими, как у мужчины, жилами, но еще по-мальчишески пухлые.
…Ветер идет валом. Кажется, что кто-то над крышей высоко в воздухе хлопает огромными брезентами. Ветер напирает на дом. Особенно настойчивый порыв — и на стене шевелится солнечный мичуринский монтаж, куски сухой замазки летят с подоконника.
Несколько раз Матвеич выходит в сени.
— Не стихает? — спрашиваю Матвеича.
— Малый стихает, большой начинается. Считай, нет на пятом озимки…
Логушов молчит, и сторож обращается ко мне:
— Выдул… Летом он еще вреднее, летом высушивает. И весной высушивает…
Он подгребает золу фанеркой, щупает выходящую в смежный класс стену.
— Не греется. Степь не натопишь… — Он смотрит в пол. — Чи дождешься такого, чтоб каждый день душу себе не мотать: уродится, не уродится?.. А вдруг как и дождешься… Иван вот Логушов всем рога ломает! Прицепится — рад не будешь. Злой!
Я оборачиваюсь; Логушов спит, поджав босые ноги под скамейку, навалившись телом на стол. Его лицо уткнулось в брошенные перед собой тяжелые руки, и слышно детское, посапывающее дыхание хозяина степного лесхоза.
Весенним днем
Алексей Петрович Денега — новый председатель райисполкома — четвертый день принимал район.
Сегодня он взял на строительстве плотины катер и поехал по морю. Море только наполнялось. Запертая плотиной река затопляла весеннюю, серую еще степь, балки, дороги, усыпанные соломенной трухой, и над морем стоял сыростный запах пахотной земли и талого снега. Катер шел ровно, за кормой вздымались две крутые борозды, взбрасывали на своих гребнях то проплывающий телеграфный столб с изоляторами и оборванными проводами, то строительную щепу и сорванные с плотины опалубочные доски.
Алексей Петрович, тучный, в скрипящем хромовом пальто, стоял на корме и смотрел на далекий берег. Тридцать лет не был он здесь, где родился и вырос. Ему, как все считали, новому тут человеку, уже четыре дня рассказывали о районе, и он слушал, узнавал на местах колхозов былые Поповки, Ивановки, Христовоздвиженки. По фамилиям и отчествам молодых работников он иногда припоминал их отцов, и ему было тревожно, удивительно слушать вроде бы знакомых, а в сущности, совершенно новых ему людей. Вот и сейчас он с интересом слушает тоненького мальца-матроса, который изредка объясняет языком десятиклассника: