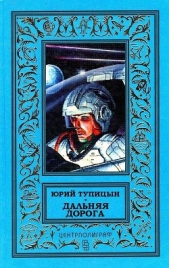Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе.
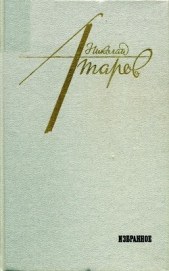
Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. читать книгу онлайн
Однотомник избранных произведений известного советского писателя Николая Сергеевича Атарова (1907—1978) представлен лучшими произведениями, написанными им за долгие годы литературной деятельности, — повестями «А я люблю лошадь» и «Повесть о первой любви», рассказами «Начальник малых рек», «Араукария», «Жар-птица», «Погремушка». В книгу включен также цикл рассказов о войне («Неоконченная симфония») и впервые публикуемое автобиографическое эссе «Когда не пишется».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И хоть смеялись свекровь и невестка над тем, как черкес забежал погреться и от живого чуть не увел жену: «Ишь зять образувался, чудак… Свой уж там шестнадцатый месяц… Он сегодня здесь, а завтра кто его знает где», — но когда ушел черкес на рассвете, часто они его после вспоминали, вышучивали, — обеим он им втайне по сердцу пришелся. И жалко было, что война всех угоняет.
Однажды остановился в избе генерал. Поснимали фикусы со стола, накрыли стол чистой скатертью и поставили свечи в медных литых подсвечниках. А на стене повесили большую карту; она висела рядом с иконой, чернеющей в тусклом серебре. Лицо у генерала было, как казалось старухе, хоть и строгое, но крестьянское, простое. Он сидел на высокой постели, ногами не доставая до полу, беседовал с полковником, и только запомнилось старухе, как он сказал о немцах:
— Я их на левом фланге чутьем чую, как, знаете, по тяжести ведро узнаешь в колодце. Пора начинать.
И как сказал генерал о ведре и колодце, так бабка перестала робеть; почему-то ясно представила себе крестьянскую мать этого генерала и его самого в детстве, вроде Андрюшки, и сделался он, несмотря на его карты и подсвечники, таким же военным постояльцем, как и другие, что занимали до него избу каждый вечер.
Уехал генерал, и снова к ночи наполнилась изба. Одни стаскивали с плеч мешки, другие разматывали портянки, щелкали затвором; кто-то сладостно тер коленку: «Рана мучает, — видать, к снегу. Наверное, потеплеет», — и, видно, было привычно ему родниться через старую рану с ветром, что гонит снеговую тучу. Невзначай рассказывали о былых делах — кто с Брянского, кто из-под Ельни, кто из-под Невской Дубровки; сыновей бабкиных не встречали, но зато было столько трезвой, хозяйственной ненависти к врагу в неторопливых словах, что старая все равно радовалась, кивала да подливала каждому молока. А одного казаха даже в лоб поцеловала, когда он, сверкая глазами, стал рассказывать, как заскочил в немецкий окоп: «Двенадцать перерезал, патронов не портил…»
— Сердешный ты мой! Дома-то жена, поди, ждет.
В эту светлую минуту старухиной радости кто-то прислушался:
— Ставня хлопает. Это ты, гвардии Мухамеддинов, ставню завязывал?
Но старуха, улыбаясь, оправдала казаха:
— Если кто из военных, она всегда стучит — у нас там особые секреты.
— Это что! — сказал пожилой солдат, обтиравший винтовку. — Вот в Серафимовиче-городе… там совсем пустой город после немца, жителей угнал… не привязаны ставни во всем городе. Ночью ветер поднимется — хлопает во тьме, гремит.
— Железо на крышах скрыпит, — вкусно, будто с удовольствием, подтвердил сержант, который в углу жадно готовился к ночлегу — ползал по расстеленному полушубку и мял его кулаками, приговаривая: — Эх, и покатаюсь нынче всласть!
Наступала ночь. Бормотали, всхрапывали, стонали. На дворе, на морозе — сквозь ставни видно — горел костер: это рачительный ездовой из башкир не хотел войти в дом погреться, отойти от лошадей.
По ночам летали на бомбежку наши самолеты. Они всегда пролетали прямо над избой, тревожили лошадей во дворе. И по ночам кто не спал из солдат, тот слышал, как вздыхала старуха и что-то похожее на молитву шептала вслед летчикам, чтобы ребята вернулись невредимыми. Под утро и впрямь они возвращались: гудели моторы.
Так шло время. Непонятно было, сколько же там может фронт вместить. Новые волны идущих затопляли избу и двор, и не было никому отказа — ни веселым, ни грустным, ни скупым, ни щедрым, ни русским, ни армянам. Только уж если полным-полно и укладывать негде, а еще стучатся, тут старуха не отворяла дверь:
— У нас военные… Полно́, милый человек. Поищи у соседей. Нам ничто не сто́ит, да сам не отдохнешь и людям не дашь.
И укладывались спать обогретые, сытые люди дружно и тесно, рядком на полу; а если кого знобило, того женщины клали на скамью, ближе к печке. Сами хозяйки, втроем с девчонкой, спали на одной кровати.
Разговор затихал не сразу.
— На войне без претензий, — говорил один, подвертывая шинель под плечо.
— На войне безо времени известно, — спросонок глубокомысленно, но непонятно замечал другой.
А третьему, молодому, не хотелось спать, и он всю-то ночь задавал бабке вопросы «на искренность», все чего-то допытывался.
— Мать, а мать… Ты скажи мне, мать…
— Что тебе, сынок?
— Ты скажи мне, мать… Ну, ночи не спать — это можно. Вон шоферы автобатовские рассказывали — трое суток совсем не спали. А тоже в мирное время были люди разборчивые и зарабатывали, верно, поболе моего. Мать, я о чем говорю: ну, ногу не пожалею… ну, за рукой не постою… отдам…
Мысль его билась, как птица крыльями; он что-то хотел высказать и все допытывался у старой женщины в спящей избе:
— Мать, а мать… Ты скажи мне, мать…
— Ну, чего еще? Спи, сынок.
— Мать… Ну, а жизнь отдать? А? Как в присяге: не жалея самой жизни. Как же это, мать? А зачем же тогда…
И старуха насторожилась, приподнялась на локте, вгляделась в молодого солдата, тосковавшего на полу. Она не очень-то вглядывалась в лица, чтобы не увидеть похожих на тех, на своих, а тут вгляделась. Но, видно, его доверчивое вопрошающее, разумное лицо в свете слабого ночника успокоило ее. Она прилегла и, не видя парня, выговорила ему, как своим перед дорогой:
— Неужто же страх остановит, сынок? Не может этого быть… А ты вот чем живи: как бы вред фашисту нанести, убить его, подлюгу. Это посильнее страху. Тут и головушка станет ясная, легкая. И она подскажет, милый, где лечь, а где вскочить, и куда стрелять, и кого колоть… И не пропадешь ты, сынок.
— Верно, верно. И я так думал, — шептал солдат.
И снова через минуту, словно напиться к прозрачному ключу, тянулся с полу к широкой кровати, шептал:
— Мать, а мать!..
А под утро услышал солдат рыдания и сперва не понял, а потом прислушался и догадался: это плакала молодая рядом со старухой, у самой стенки. И ему стало не по себе: верно, муж ей не пишет.
— Что? От супруга не слышно? — спросил он у старухи.
Но та хмуро приказала ему:
— Спи. Утро скоро.
И тут стало так тихо в избе, что Ксения перестала плакать; лежала, думала о многих вещах. Один из спящих скрипел зубами во сне, и этот звук был странно похож на то, будто высоко-высоко над избой летят и курлычут гуси.
Утром молодой паренек встал вместе со всеми, умылся, что-то искал в бумажнике — денег, что ли? Нет, достал фотографию. Долго писал на ее обороте, потом, не глядя на Ксению, сказал бабке:
— Я вам карточку подарю. Вот написал надпись: «На память мамаше».
— Спасибо, сынок, — поклонилась бабка.
А он точно снеговой водой умылся, как тот рыжий тогда: уходил такой веселый, все шутки шутил. Сынок! И его фотография тоже оказалась в рамочке на стене, рядом с карточками сыновей.
Но однажды, в середине декабря, под Николу, никто не пришел ночевать. Хозяйки сидели у печной дверки, у огонька. И было в избе просторно, чисто и одиноко. Ставни дрожали, хотя и хорошо привязанные: сильно били пушки.
Женщины помалкивали: понимали, что это от Дона началось большое наступление. Там они, милые, сейчас в огне купаются, кровью умыты, и генерал и солдаты. И тот черкес с каменным домом, и узбек, что кота прогнал, и тот, что солому караулил, и тот, глупый, молоденький, сынок… да тот, что клеенку изрезал… И наши там. Или еще где…
Бабка часто выходила во двор; будто дожидаясь кого-то, стояла у калитки. Всю ночь светились белые холмы, шли машины, поливая фарами дорогу. Фронт далеко ушел. Коли так — пусть и в избе будет светло, и старуха растворила все ставни, а невестка ей не мешала — пусть делает что хочет, не спится в такую ночь. В избе замерцало, посветлело от дальних взблесков и белого облачка ракет.
Ночью мороз стал набирать силу. На стекле окна он вывел пятнадцать серебряных витков; старуха пересчитала их, сидя у окна. Давно уже не было так тихо и одиноко в избе, и печь дышала мирным теплом.
И снова с чувством тревоги и радостного ожидания старуха вышла во двор. Так высоко она стояла на косогоре, над опустевшей дорогой, у порога избы, что, казалось ей, крикни — и голос полетит по всей земле: до Кимр, до казахской жены, до каменного дома черкеса в горах, и отзовутся все женщины в домах и птицы в гнездах, и, может быть, станет слышно ее в тех неведомых, закоптелых и рябых сугробах, где воюют ее сыновья.