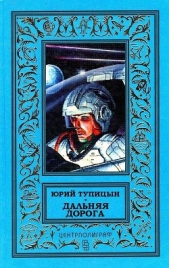Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе.
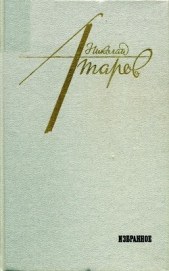
Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. читать книгу онлайн
Однотомник избранных произведений известного советского писателя Николая Сергеевича Атарова (1907—1978) представлен лучшими произведениями, написанными им за долгие годы литературной деятельности, — повестями «А я люблю лошадь» и «Повесть о первой любви», рассказами «Начальник малых рек», «Араукария», «Жар-птица», «Погремушка». В книгу включен также цикл рассказов о войне («Неоконченная симфония») и впервые публикуемое автобиографическое эссе «Когда не пишется».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Зима — вот именно: валенок не хватает. Ты отдай свои валенки фурмовщику, а сам поезжай на юг, отдохни.
Болоев снял папаху. Седая на висках, плешивая голова была мокра от пота. Он вытер пот ладонью.
— Старый стал? — спросил Болоев.
— Поиздержался, батенька. Нельзя так.
— Я, батенька, здоровый, не поиздержался, — передразнил Болоев. — Мне сам нарком говорил: «Какой ты здоровый, крепкий, Болоев!» Разве я хуже стал?
— Ты какой был, такой остался. Вот в чем беда.
Болоев долго молчал.
— Значит, не такой, раз баба уходит.
— Это не главное, — поспешил возразить директор, он сочувственно вздохнул. — Ушла баба? Что ж ты ее отпустил?
— Я в цехе был. Цауштн, девка… — поморщившись, сказал Болоев. — Ушла — вот и стало мне плохо.
— Скандальный ты человек, Самсон. Тебе этого валенка товарищи не простят. Уезжай с глаз долой. А там видно будет. Тогда возвращайся.
Болоев понял, что не о чем разговаривать. Он надвинул папаху на брови, как джигит. Пошел из кабинета, взявшись за ручку двери, остановился.
— Как думаешь, этот артист, Ярошевский, выдержит?
— Нет, думаю, не он, а Багашвили возьмется.
— Такой газ — крыша и та ржавеет. А слабый человек разве может выдержать?
Директор встал, улыбнулся.
— Нет, думаю, не выдержит.
Болоев понял: директор хочет его утешить. «Ага, проговорился, сукин сын», — подумал Болоев. Так велика была его тоска, что он не огорчился разговором, а, наоборот, обрадовался, что хорошо понял директора.
А на улице Шадрин пристал. Дожидался, что ли?
— Что ж, Клавка-то не вернется? — Так он спросил без всякой злости и пошел рядом.
— К начальнику ОРСа ушла, там сытнее. Зачем насмехаешься?
— А ты что делаешь? Валенками кидаешься. Мы народ простой, необидчивый, но таких невежливых вещей никому не позволим.
— Чего ты прицепился? Цауштн, отстань от меня.
— Черта лысого! Я и пошел над тобой посмеяться. Отстану, как же…
— Что ты как репей пристал?
— Иди, иди, нипочем пропадаешь!
— Цауштн, сам пропади!
— Вот мы с тобой свыкнулись, сжились, хоть и враги.
— Что ты зудишь? Что зудишь?
— А ты чего таишься? Что в цехе, что в доме. Какой вражеский характер придумал. Клава ушла — ты скажи, не утаивай. Ведь родственники стали. А то по ночам скачет, ищет. Знаешь, как говорят: не искал бы ты в селе, искал бы в себе.
— Придет девка. Козу прирежу. Она придет, будем шашлык есть.
— Не придет, не обманывайся. Раз ушла так скрытно, значит, не придет. Не воротится.
— У нас приходят.
— И у вас не приходят. Что врать-то, Самсон? Хоть ты будь японец, хоть мексиканец, а девки всюду уходят одинаково.
— Что ты меня дразнишь, Шадрин?
— Иди, иди.
— Цауштн, говори — чего дразнишь?
— Глупый человек, я с тобой по-хорошему иду, тебя дражню. Ты уважать должен. Так медь дражнят, как я тебя… Ты старый человек, чтобы ты себя сам не истомил, вот я тебя и дергаю и дражню.
Болоев вздохнул.
— Эх, ты-и-и-и-и, цауштн… — И молча пошел рядом с Шадриным.
Они закололи козу, освежевали ее и опять ссорились: каждый хотел по-своему. И вместе жарили ее. Из трубы болоевской сакли густой дым валил — там двое спорили, горячили кровь, вспоминали обиды и провинности. И поздно вечером Шадрин звонил на свиноферму и просил свинарок разыскать дочь, чтобы им вместе подумать, как сделать, чтобы зря не пропал Мазепа.
1935—1964
НЕОКОНЧЕННАЯ СИМФОНИЯ
(Из цикла о войне)

Изба
Над большой дорогой с краю села, на косогоре, стояла изба. С тех пор как война вошла в среднюю полосу России, каждый вечер в избу шли ночевать с дороги военные люди. В ноябре готовилось большое наступление. Войска двигались к фронту безостановочно: артиллерия, пулеметы на вьюках, двуколки с минометами, танки. Пехота шла ходким шагом, с тем русским здоровьем, которому нипочем в пути и снег по колено, и вьюга, слепящая глаза. Но к вечеру кони задыхались. Свет фар блуждал по снегу, ища колею. Ветер и тьма гнали людей под крышу.
В избу входили ослепшие от вьюги, в набухших полушубках, с промокшими варежками, в заиндевевших шапках. Приходили и в хромовых сапогах, которых никак не просушить за ночь.
Хозяйка посыпала земляной пол желтым песком, изба была так чиста, что никто не лез в нее, не обметя метелкой валенки в сенях. С темнотой окна запирались ставнями. Старуха нарубала еловых веточек три-четыре охапки, совала их в печку, и по ним бежали веселые смолкие огоньки. За окнами шумела фронтовая дорога, слышались приглушенные сугробами голоса и нытье буксующей машины; там были свет фар, ветер и снег. А изба — как дубовый дедовский шкаф. И каждый, пригревшись, пьянел от усталости. Доставали из мешков кто селедку, кто шпик, кто концентраты. Фронт — рукой подать: люди становились дружней и отзывчивей.
То и дело в сенях стучала щеколда и слышался шорох метелки. Ксения, бабкина невестка, знала, что где сушить. Мокрый полушубок — боже сохрани на печку! — прямо на земляной пол. А валенки и варежки — тесно в ряд на печи. Винтовки — в дальний угол, чтобы отпотели.
Каких только гостей не принимали хозяйки!
Один запомнился — злой.
— Мы, — говорит, — нынче перед тобой, а завтра перед немцем.
Старуху не возьмешь на разные такие выражения: у ней-то у самой пятеро сыновей на фронте.
А один полночи на дворе простоял, караулил: заметил, что ребята из его полка солому по дворам растаскивают. Ксения вышла на разговор, испугалась, а он успокоил:
— Ничего, я так, покуриваю тут. Не сумлевайся. А то солому утащат у тебя, глупая баба… Свой-то воюет?
Еще один заскочил, так тот все хотел голову помыть снеговой водой, без мыла. Долго плескался, а потом у печки сушил рыжие, потемневшие от воды волосы, крутил самокрутку, жмурился.
— Откуда ты, милый? — спросила старуха.
— Из Кимр.
— Сапожник стало быть…
— Коли Кимры, так уж сапожник! Нет, шлюзовый механик.
И старуха пожевала губами, как всегда, если чего-нибудь не понимала.
Были бережливые и были щедрые. Солдаты не трогали утвари. Только и было убытку, что искрошили зеленую клеенку на столе, бог с нею… Солдат сгоряча, с дороги, сахар стал рубить на столе. Давно ушел он и уж давно, наверно, на передовых, а память оставил. И каждый, кто ужинал за столом, спрашивал, разглядывая чистую клеенку:
— Верно, сахар рубил? Неосторожный какой: где ел, где кушал, там и зарубку оставил…
Один ложку забыл. Старуха, подавая ее к горшку со щами, всегда приговаривала:
— Ваш какой-то оставил. Тоже так-то, как вы, пришел: «Пусти на ночь».
На стене шли ходики и, может быть, от дальнего гула на Дону часто останавливались. Кто-нибудь из солдат снова ставил их по своим часам. Под ногами ходил и обглаживался черный хозяйский кот; о нем бабка тоже знала что рассказать; кто его брал на руки и в усы дул, кто рыбой кормил, а узбек затопал на него, прогнал от себя — кота не любит. И когда рассказывала про узбека, как он на кота по-своему заругался, все смеялись.
Однажды черкес ночевал и стал свататься к невестке. Щеголял перед Ксенией, красовался, сам смуглый, осанистый такой.
— Иди за меня. У меня в горах дом каменный.
А тут подвернулся в ту ночь курносый какой-то, все возился со своими мокрыми портянками; стал он дразнить черкеса.
— Бывал я, — говорит, — в ваших местах. Брешешь ты: «каменный»! Обыкновенно кизячная сакля. Это тебе мнится, что каменный.
Но черкес всю ночь хвастал каменным домом, и на душе у него, видать, смутно было, и нужен был ему в ту ночь друг. Позарез нужен. Подозвал к себе девочку, Ксенину дочку, снял кольцо с руки, отдал девочке — подарил. Серебряное, с насечкой.