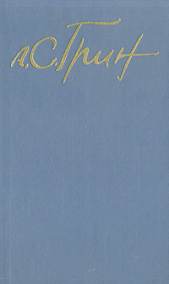Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906

Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906 читать книгу онлайн
В третий том Собрания сочинений Н.Г. Гарина-Михайловского вошли очерки и рассказы 1895–1906 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это все оправдается, — бурчал он своей скороговоркой.
Черные поля представляли яркую и оживленную картину.
Тянулись нескончаемые вереницы бычьих плугов; на горизонте стройно, как войска, двигались рядовые сеялки, сотни конных борон тянулись друг за другом в своем обычном водовороте, группы баб и ребятишек, садивших подсолнухи, похожи были в своих пестрых рубахах и сарафанах на цветы.
Над всей этой яркой картиной стояло сочное голубое небо, от согретой земли шел легкий пар, и насыщенный им воздух рябил и млел в лучах весеннего солнца.
Надо знать неподвижность деревни, отсутствие всякого представления здесь о времени, чтобы оценить энергию, нужную для того, чтобы вызвать такую кипучую жизнь.
Виновник, — Иван Андреевич Лихушин, действительно, проявлял энергию, превосходившую всякое представление о деятельности человека.
Я не знаю, когда он спал. Все дни он проводил в поле, поспевая везде, а вечера и большую часть ночи, отдав нужные распоряжения на завтрашний день, проводил в комнате своих помощников и изыскателей, принимая и в их жизни деятельное участие, в их песнях, спорах и разговорах.
— Да идите вы спать, — говорил ему доктор студент, — железный вы, что ли, в самом деле?
За столом у Лихушина собиралась веселая компания, человек в двадцать.
Пили водку, закусывая ее луком, ели щи, вареную говядину, ели с аппетитом, уничтожая груды хлеба и мяса. Ели хорошо, а спорили еще лучше.
Компания состояла из студентов-изыскателей, ожидавших начала работ и пока бездействовавших, трех практикантов-агрономов, одного студента медика, которого все называли доктором, и студента ветеринара, он же и кассир. К компании примыкали и Лихушин и его помощник агроном, молодой, болезненный неврастеник, и бухгалтер, маленький, кудрявый, заводивший какую-то в высшей степени сложную бухгалтерию.
Практиканты-агрономы держались особняком и только по праздникам принимали более деятельное участие в жизни остальной компании.
Душой компании был из «выгнанных» студент Борис Геннадиевич Свирский, или просто Геннадьич, как называли его все.
Высокий, длинноногий, нервный и впечатлительный, как женщина, Геннадьич постоянно волновался и кипятился. Середины у него никогда не бывало: или любить, или ненавидеть. И нередко бывало так, что тот, кого сегодня он превозносил, открывая в нем всевозможные добродетели, гражданские и личные, завтра позорно летел с пьедестала, и Геннадьич уже говорил:
— Я в нем разочаровался.
Горячка он был невозможная, — вздуть пустое событие до размеров, заслоняющих все и вся, было для него делом обычным. Тогда он становился несправедливым, нетерпимым, прямолинейным. Но Геннадьич был отходчив и снова делался умным, добрым, отзывчивым, очень начитанным и очень образованным человеком. Товарищем он был прекрасным, всегда готовым на что угодно: лезть на баррикады, обвинять, восхвалять, пить, петь, спорить, проводить ночи без сна — словом, как ни жить, только бы жить вовсю, с размахом.
Полной противоположностью ему был студент Сажин, — единственный, не поддававшийся влиянию Геннадьича, — замкнутый, сосредоточенный блондин среднего роста с самым заурядным лицом, но с выразительными умными глазами, холодный, спокойный, скорее злой, чем добрый. Все это, впрочем, скрывалось в тайниках его души.
Сажин, по убеждениям, был марксист, — тогда еще новое слово, а Геннадьич — горячий народник, как окрестил его Сажин и против чего энергично протестовал Геннадьич.
— При чем тут народник? — кипятился он, — народники В. В., Юзов, Кривенко, Златовратский, а я стою за культуру обобществленного труда.
— Что, по-вашему, может, — едко перебивал его Сажин, — осуществиться поддержкой собственности с помощью вашею и еще нескольких, таких же добрых малых «я», которые захотят, кого-то уговорят, заставят, — логичный исход, и все сделается.
— Да, — отвечал Геннадьич, — я признаю значение личности и верю, что нет никакой надобности каждой народности проходить те же фазисы и можно слиться с передовым течением в любом периоде развития.
— Полное противоречие в самых ваших определениях, — отвечал холодно Сажин, — «развитие», «передовое течение», «слияние» — все это понятие о движении: одно движется, другое стоит — какое тут слияние? Или путь самосознания заменить тем или другим распоряжением, какое кому кажется лучшим?.. Это и есть путь произвола, деспотизма, к этому и ведет субъективизм…
— А вы что противопоставляете этому субъективизму?
— Объективное, конечно, начало, воле отдельного лица или лиц — законы, по которым движется жизнь.
— А отдельным лицам сложить ручки и ждать у моря погоды? — спрашивал Геннадьич. — И пусть какая угодно гадость делается, вы кланяйтесь и благодарите, и говорите, что все существующее разумно…
И раздраженный, охваченный Геннадьич уже кричал:
— Так подите вы к черту, служители сатаны, с своим Марксом и его «Капиталом»! Противны вы, как гробы, с своей теорией laissez faire, laissez aller [21], — буржуи проклятые!
А Сажин вставал и, уходя, говорил:
— Ну, уж это… один из приемов субъективизма.
Среди остальной компании у Сажина поклонников не было.
Студент доктор был весь поглощен своею специальностью и не хотел связывать себя никакими кличками.
Геннадьич относился к доктору сперва пренебрежительно и восхвалял Лихушина.
— Сила, знанье! И на все его хватает, — это герой.
Но кончилось тем, что к Лихушину Геннадьич стал охладевать и, наоборот, начал все больше увлекаться доктором.
— У Лихушина крупный недостаток: у него «я» даже его переросло.
Доктор был простой, уравновешенный малый. Он и ел, и пил, и пел, и работал и с одинаковым усердием, весело, взасос все это делал.
Он весь сосредоточивался на том, за что брался в данный момент с увлечением, с огнем.
Не любил он только всяких отвлеченных споров. Это было единственным временем, когда доктор вдруг сосредоточивался и, молча пощипывая свою бородку, терпеливо ждал, когда кончат спорщики. Иногда ждать приходилось долго, и доктор говорил:
— Давайте лучше петь, господа.
— Ты не любишь споров? — спрашивал его Геннадьич.
— Я понимаю, — отвечал доктор, — научные диспуты: соберутся люди специально с этою целью, строго держатся основной нити, а вы ведь, как козы, прыгаете с одного предмета на другой.
— Ну черт с тобой, будем петь!
И они пели: Геннадьич стоя, вытягивая свою длинную шею, складывая руки на животе, точно кто собирается в это время ткнуть его, а доктор, кряжистый, сильный, пригибая подбородок, упираясь так, словно собирался бороться.
Пели они с чувством, с силой: Геннадьич тенорком, доктор — мягким раскатистым баритоном. Пели, увлекаясь, иногда по целым ночам.
Но в восемь часов утра, умытый и свежий, доктор уже открывал свою лавочку, то есть прием больных.
Собранный, возбужденный, он толково опрашивал больных, своим интересом к ним вызывая и в них энергию и веру.
Популярность его росла, и прием больных доходил до восьмидесяти в день.
— И ведь это, — толковал нам доктор, — не земский прием, где и двести пятьдесят примут таким путем: «Эй, у кого рвота, болит живот под ложечкой — вы ходи влево. У коего великая скорбь — стой на месте. У кого глаза — вправо. У кого лихоманка — иди к забору. Остальные заходи в приемную». Зайдет человек двадцать, из которых штук пятнадцать еще отправит к прежним группам, которым фельдшера по одному рецепту выдают лекарства. А я ведь каждого больного… Вы пожалуйте-ка ко мне на прием.
На приеме у доктора была образцовая чистота.
Доктор в белом балахоне, его помощница по составлению лекарств — Анна Алексеевна Кожина, дочь мелкого землевладельца, окончившая гимназию и собиравшая деньги для того, чтобы продолжать свое образование — тихая, безответная, молоденькая.
Доктор с аппетитом тормошил больного, пощипывая бородку, стреляя своими большими глазами, напряженно, очевидно, перебирая в памяти учебники.