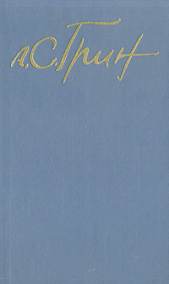Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906

Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906 читать книгу онлайн
В третий том Собрания сочинений Н.Г. Гарина-Михайловского вошли очерки и рассказы 1895–1906 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— У-гм… У-гм… А вот здесь не болит? Болит… У-гм…
Доктор задумывался, иногда справлялся в книгах.
Прием тянулся до обеда. Обедали к часу. После обеда доктор спал, потом с помощницей готовил порошки общеупотребительных лекарств для другого дня и затем, покончив, отдавался отдыху.
Томившийся бездельем Геннадьич, которому надоело уже все и даже чтение, пытался иногда нарушить режим доктора.
— Нет, — отрезывал доктор, — все в свое время.
А ты вот, чем баклуши бить, — помогай.
Геннадьич стал помогать и так увлекся, что сделался вторым помощником доктора.
Как раньше Геннадьич находил интерес в сельском хозяйстве, сопровождая Лихушина по целым дням в поле, часто после совершенно бессонных ночей, так теперь увлекался всякими болезнями и толкованиями по поводу них доктора: рылся с ним в учебниках, а в сомнительных для него случаях ездил к Константину Ивановичу, как объяснял он, с целью вывести доктора на свежую воду.
За обедом Геннадьич с одушевлением рассказывал разные сцены из приемной жизни.
— Бабы, особенно девки, прямо безнадежны: тупость… Язык у них у всех, — говорил Геннадьич, — какой-то совершенно особенный. Приходит мрачный крестьянин с экземой: «Наш фельдшеришка толкует: у тебя рак подкожный — зудом и выходит». Другой говорит: «пузерь у меня», — оказывается отрыжка. Иногда ничего не поймешь: «ноняй от работы, ноняй от тоски сохчу» — это значит: не то от работы, не то от тоски сохну. Или: «Голова хрустит; пока чемир дергают, легче, а ноне ни один волос не щелкал, потому и голове не легче». Это значит, что голова у нее болит, и пока выдергивают ей волосы и пока они щелкают, голове легче. «Как, говорит, выпью, душа навалится и нельзя дышать». А одна старушка: «Ох, батюшка, вся-то я разорилась…» Все свои члены они называют уменьшительно: глазоньки, или просто зеньки, рученьки, брюшенько, брюшко. Покажи язык: «Не смею». Или закроет рукой и еле высунет под ней кончик языка.
— Я не понимаю, — горячился Геннадьич, — как тут жили, как могут жить люди без медицинской помощи? Нет, черт с ними, с изысканиями и со всем инженерством, — осенью еду за границу изучать медицину.
Геннадьич понемногу и всех увлек медициной.
Однажды привезли к доктору из соседнего села одного крестьянина, который как-то вилами проткнул себе живот.
— Дрянь дело, — сказал, осмотрев, доктор, — надо выписать Константина Ивановича.
И вот Константин Иванович, наш доктор студент, Геннадьич и Анна Алексеевна, да и мы все по очереди несколько дней и ночей просидели над умиравшим от перитонита крестьянином.
Громадный крестьянин, силач и красавец, лежал, смотрел на всех вопросительными глазами и тяжело дышал. Положение его ухудшалось с каждым часом, лицо куда-то проваливалось, все больше и все больше вырастала вся эта масса вздутого живота его, тяжело и неровно опускавшегося.
Было эпическое во всей этой простой покорной смерти этого колосса, в его жене — стойкой, тоже покорной, двух маленьких ребятишках, окружавших постель отца.
В редкие минуты облегчения крестьянин делился своими думами.
Однажды, обернувшись ко мне, он облегченно заговорил.
— Скоро это все кончится: приезжал к нам один, — переписывал, у кого что есть, а солдат один видел его в Питере и признал. Подходит к нему и говорит: «Ваше благородие, а ведь я признал вас». И сказал ему, кто он. Тот испугался, вскочил и говорит: «Что ты, что ты, и никому этого не говори». И сейчас лошадей себе потребовал. Ну, схватились тут мы, что не ловко сами сделали, — он будто не хотел, а мы его вроде того, что открыли… Миром и порешили: мне везти его и рассказать ему в дороге про всю нашу крестьянскую нужду. Лучших лошадей собрали, я кафтан надел… Как поехали, народ весь на колени… Выехали за околицу, повернулся я к нему и стал ему все докладывать: как народ без земли бьется, как трудно жить: хоть у Авдея Махина, пятнадцать рабочих ртов на четырех десятинах сидят: с чего же тут хлеб есть? Все, все рассказал. — Больной понизил голос: — И про себя не утаил, — признался ему, что две лошади свели у меня осенью со двора: совсем разорился… Так с тем и уехал тот на чугунку… И так что надеемся мы теперь, крепко надеемся, что все переменится… и скоро… скоро… будет и нарезка и скотина: все будет…
Он лежал на кровати, одетый в наше тонкое белье, шелковая подушка была под его головой, его поили шампанским, за ним был самый нежный, самый трогательный уход. Больной оглядывал с удивлением себя, переживая, вероятно, какую-то сказку от этой переменившейся вдруг обстановки: как будто уже начинал сбываться заветный сон жизни…
На третий день сразу произошел крутой поворот к худшему.
— Гнилостный перитонит, — объяснил Константин Иванович, — вилы, очевидно, проткнули брюшину и кишку снизу вверх, из кишки успело выйти содержимое, затем стянуло и кишку и брюшину, и это содержимое, не имея выхода, произвело гнилостный, не гнойный, гнилостный процесс. Возбуждающие больше не действуют: если его разрезать теперь, то печень и сердце у него уже совершенно желтые от жирового перерождения. Колляпс полный, очень скоро конец при полном сознании.
На одно только мгновение больной как будто потерял сознание. Он вдруг, смотря перед собой, и радостно и испуганно спросил:
— Откуда кони? — Но сейчас опять пришел в себя и скорбным голосом сказал: — Помираю я…
Он протянул нам руку, пожал наши, с усилием кивая головой и говоря сухим раскрытым ртом, сверкавшим белыми зубами:
— Помираю, прощайте, прощайте…
Он простился с женой, благословил детей.
Последняя вошла в комнату Анна Алексеевна.
Он порывисто протянул ей руку и, когда она наклонилась, шептал ей уже без голоса с потрясающим чувством тоски:
— Помираю я, прощай… Ты как мать родная была со мной… лучше матери.
Кроткая, тихая, вся воплощенная любовь, так и застыла над ним Анна Алексеевна, смотря в его глаза. Порывисто дыша, он смотрел на нее сухими, воспаленными глазами, открывая все большерот. Понемногу глаза поднимались все выше и выше, а рот открывался все больше и больше, пока с последним усилием вздохнуть не застыло без стона и звука все это громадное тело и рот, и глаза в неподвижной, спрашивающей позе.
Без стона и звука упала на землю и стоявшая на коленях жена, и молча, судорожно забилось ее тело о пол.
Анна Алексеевна, все время спокойная и стойкая, молча поднялась, перешагнула через жену умершего и вышла в другую комнату. Выйдя, она побежала и бежала все быстрее и быстрее с широко раскрытыми глазами, изредка вскрикивая, хватаясь за голову, пока не упала и не начала кричать неистово и дико.
Ее крики и хохот неслись по всему дому, потрясая воздух. Голосом раздирающего душу отчаяния и тоски она кричала имя умершего: «Григорий, Григорий, мама, мама!»
Доктор тихо объяснил, что недавно умерла ее мать, и с ней был такой же припадок.
Я в это мгновение вспомнил вдруг, как эта Анна Алексеевна говорила тоскливо, стоя у окна:
— Где же выход? Как жить, чтобы не жалко было, что жила?
И еще угнетеннее теперь раздавались ее вопли: «Мама, мама! Григорий, Григорий!..»
Доктор и Геннадьич возились с ней: Геннадьич взволнованный, готовый сам обезуметь, доктор Константин Иванович спокойный и совершенно желтый.
— Сам уже ходячий мертвец, — сказал наш доктор, когда Константин Иванович, успокоив Анну Алексеевну, уехал, — водянка началась уже, а живет ведь как самый нормальный человек: вот это сила…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Компания наша увеличивалась.
В одно из воскресений на двор князевской усадьбы въехала плетушка, запряженная в одну лошадь. На козлах сидел молодой парень, а в плетушке — Писемский, по обыкновению сгорбленный, весь ушедший в плетушку, и только изгрызенная соломенная шляпа торчала оттуда.
— Шурка, — радостно приветствовал Геннадьич вошедшего в столовую приятеля, где в это время компания садилась за обед.
Писемский, комично пригнувшись, спросил: