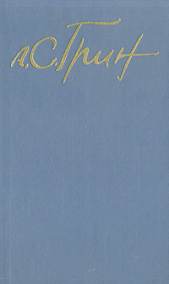Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906

Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906 читать книгу онлайн
В третий том Собрания сочинений Н.Г. Гарина-Михайловского вошли очерки и рассказы 1895–1906 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Извините, пожалуйста, заговорил я вас. Как начну, ведь не удержусь, а этого ведь никогда не кончишь. Лучше уйти…
И он быстро ушел от меня в другие комнаты.
Его молча проводил глазами маленький господин с испитым лицом, вздернутым задорно носом, и, заложив руки в карманы, уверенно подошел к высокому, широкоплечему, сухому и сильному человеку в рубахе косовороткой, поверх которой был надет поношенный пиджак.
— Ну, что, Ваня, — лениво проговорил маленький, — выпьем, что ли…
— Выпьем, — согласился высокий, и оба пошли к столу.
Они выпили, закусили и отошли к молодому человеку, одиноко сидевшему недалеко от меня.
— Шурка, не грусти, — хлопнув его по плечу, присаживаясь, сказал высокий.
Присел и маленький.
Молодой человек в ответ кивнул головой и добродушно сказал:
— Ладно, не буду. Давай так условимся: я грустить не стану, а ты водку брось пить.
— А мне что? Только и всего, что бросил.
— Бросил? Честное слово?
— Говорят тебе, бросил.
— Нет, честное слово?
Высокий махнул головой и пренебрежительно ответил:
— Честное слово.
— А я с кем же пить стану? — спросил маленький.
— А ты тоже брось, ей-богу, — посоветовал молодой человек.
— Ладно, пройдет это с вами, — ответил маленький.
— Кто эти? — спросил я у доктора.
— Этот вот маленький, — начал объяснять мне подсевший ко мне доктор, — фельдшер Петр Емельянович Снитков, этот юноша — учитель Александр Владимирович Писемский, а этот высокий — агроном, управляющий одного здесь имения, Иван Андреевич Лихушин. Все трое друзья-приятели. Лихушин и Писемский фигуры очень интересные для вас, как для писателя, так и для хозяина: Писемский — учитель с огнем и верой в дело, Лихушин — прекрасный агроном, теоретик и практик, и тоже влюблен в свое дело. Человек больших способностей. Он уже несколько лет хозяйничает здесь в одном имении, но, к сожалению, владельцы его народ обедневший и, как все здесь, не верящий в высшую культуру..
Агроном по образованию и к тому же практик — этого в наших местах я еще не видал ни в земстве, ни в частных хозяйствах.
И так как я уже решил приняться снова за хозяйство, и хозяйство культурное, то понятно, что такой человек, как Лихушин, сочетавший теорию и практику наших мест, заинтересовал меня.
Я попросил доктора нас познакомить и через несколько минут уже сидел возле них.
— Скажите, пожалуйста, — спросил меня, когда я подсел к ним, для начала маленький фельдшер, закладывая ногу за ногу и теребя свою бородку, — вот мы прочли ваш очерк нынешней зимой «Несколько лет в деревне» — это ваше первое произведение?
— Первое.
— Что ж это вы так поздно надумали взяться за перо? Интересно в вашем писанье то, что вы пишете из действительной жизни. Собственно, жгли вас, как я понял, за то, что вы мешались в жизнь крестьян, хотели устроить ее по-своему, как вам лучше казалось… Вам, а не им, — улыбнулся фельдшер, тыкая в меня пальцем. — Ну и что же, какой же вывод получился у вас теперь?
— Я не мешаюсь больше, — ответил я, — в жизнь крестьян.
— Да, — заметил Петр Емельянович, — крестьяне, положим, и сами говорят это… на базарах даже хвалятся: «Проучили мы, говорят, княжеского барина, — рубаха, а не барин стал…»
Все рассмеялись; рассмеялся и я.
— А затем, — продолжал я, — я решил заниматься снова хозяйством.
— Хозяйством выгодно заниматься, — ответил Лихушин, — если есть деньги, если поставить хозяйство на научных основаниях, следить за последними требованиями рынка, тогда нет выгоднее этого дела, а так, как мы вот, по-мужицки…
— Но если все опять займутся таким делом, то опять будет убыток, — заметил Петр Емельянович.
— Будет хорошее хозяйство, — наставительно ответил ему Лихушин, — будет хлеб, скот, будет богатство вместо нищеты.
— Ну, тебе виднее, — кивнул фельдшер. И сказал по поводу проходившего доктора:
— А нехорошо выглядит наш доктор. Да где ему и выглядеть хорошо? Vitium cordis в полном разгаре.
— А ты не пугай, — заметил ему Лихушин, — говори по-русски.
— Порок сердца, — перевел фельдшер.
— Наследственный или благоприобретенный?
— Нажитой… Нельзя было и не нажить, — этакую семейку вытащить на своих плечах, урочишками, да и сейчас всякого народу, которого тащит еще больше… Там мать, помирая, просила не оставить сирот, школьные ребятишки, вот Настюша воспитанница в гимназию уже ходит. Так все жалованье между рук и проходит… Да и велико ли жалованье? Больной приедет: себе хлеба, лошади сена… «Константин Иванович, слышь, сенца-то беремя лошадке-то возьму у тебя?» — «Бери, если есть». Ведь продал лошадь, потому что отказать не может, а из-за одной лошади расход такой пошел ка сено… Лошадь бросил держать, а есть не бросишь; кто ни попросит: «Бери».
Поговорить с Лихушиным относительно хозяйства так и не пришлось в тот раз. Мы только условились с ним, что я с доктором как-нибудь на днях побываю у него.
Вскоре мы с доктором действительно навестили Лихушина и учителя.
Сами хозяева никогда в этом имении не жили. Когда-то владельцы эти были очень богатыми людьми, и клочок земли в две тысячи десятин не представлял для них никакой цены.
Но главное имение с оранжереями и садами было продано, продавались один за другим и придатки, пока не остались только те две тысячи десятин, на которых хозяйничал случайно попавший к ним Иван Андреевич Лихушин.
Иван Андреевич, приехав несколько лет тому назад, застал только избу караульщика.
Все это дорогой рассказал мне доктор.
— Ну, вот и Апраксино, — сказал доктор, когда мы взобрались на последний пригорок.
И сразу почувствовалось что-то иное, совершенно отличное от тех тощих полей осени, которые мы оставили за собой.
Имение начиналось живописной местностью — перелесками.
Поля между этими перелесками, по которым извивалась наша дорога, несмотря на осень, ярко зеленели. Белые стволы берез на этой зелени казались еще белее. Свежестью дышал молодой расчищенный лесок и эти поля, и самый закат, казалось, задержался здесь на ярком фоне.
Скоро, впрочем, опять потянулись обычные темные поля осени.
Я сперва принял зелень за озимь.
— Это люцерна, — сказал доктор.
Та люцерна, которую столько лет я пытался и бесплодно развести у себя. Люцерна — одна из нот громадного клавикорда культурного хозяйства.
Мы уже подъезжали к усадьбе.
На совершенно ровной местности, около пруда, своими размерами напоминавшего тарелку, возвышалось с этой и той его стороны несколько простых одноэтажных деревянных построек.
— По ту сторону, — говорил мне доктор, — приемный покой, школа, а сюда ближе экономические постройки.
Там около школы и больницы виднелась зелень молодого сада и даже клумбы с осенними цветами. Здесь же около экономических построек все было серо и даже грязно.
Мы въехали на обширный двор, примыкавший прямо к пруду.
Флигель, изба, еще какие-то постройки из осины, уже принявшие грязно-серый цвет, торчали там и сям во дворе в каком-то странном беспорядке.
Торчали так, словно вызвали их, поставили и забыли потом о них.
Рабочий вывел из-под навеса жеребца — сухого, сильного, с раздвоенным задом.
— Это его арден, — сказал доктор и крикнул рабочему: — А что, Иван Андреевич дома?
— Нет, дома нету, — в поле.
— А учитель?
— Учитель должен быть в школе.
— К нему поедем? — спросил доктор.
— Ну что ж, к нему.
Писемского мы застали в школе, окруженного ребятишками.
Школа была отстроена, что называется, начерно и состояла из четырех комнат: собственно школы, мастерской, комнаты учителя и смежной с ней переплетной.
Самая большая была школьная комната, высокая, светлая, со множеством окон.
Осеннее солнце, заходя, приветливо красноватыми лучами играло на стенах, на полу, на детских головках.
Во всей обстановке чувствовалась налаженность, уютность, равновесие. Напрашивалось сравнение со стадом и опытным пастухом, расположившим вокруг себя это стадо.