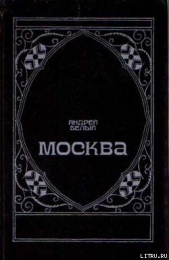Извивы памяти

Извивы памяти читать книгу онлайн
Юлий Зусманович Крелин. Извивы памяти
“...Вот и закончил я книгу о людях, что встречались мне на тропинках пересечения двух моих ипостасей - медицины и литературы. Не знаю, что было мне женой, что любовницей,как делил эти два дела для себя Чехов.” Ю. Крелин
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот так же тогда, идя по лестнице, он увидел упавшего на его глазах больного. Жадкевич увидел смерть. Рефлекс нормального врача — гнать ее, если можешь, в шею. Плюс сработали недавно приобретенные знания о приемах оживления внезапно умерших. Да и характер Жадкевича не позволял ему пройти мимо, да и сил у него тогда было много больше. В нашей больнице это было первое оживление при внезапном инфаркте. А может, и не только в нашей. Во всяком случае, помнится, понаехало к нам тогда много специалистов из реанимационного центра.
Пользовались мы в то время, что называется, "подручными средствами": не было ни аппаратуры, ни инструментария. Даже электрический импульс Миша в том случае дал сердцу, зажав его между двумя алюминиевыми ложками, подключенными к розетке. Но не упрекать же строителей Беломорканала за то, что у них были только заступы да тачки. К тому же и больной остался жив. Христос сказал Лазарю: "Встань и иди". Миша не Бог. Но больница гордилась им. В одной из московских газет появилась краткая заметочка.
Самое трудное — не пройти мимо. Потом-то все не проходили мимо, но он был первым.
А сколько внезапного горя приносила в наши отделения скоропостижная смерть от острой закупорки легочной артерии!.. Смерть наступала мгновенно, и мы лишь разводили руками, беспомощные, как перед цунами. Но Миша как-то раз решился — и победил. Как приятно сейчас в статье встретить ссылку на друга, где сказано, что Жадкевич первым в нашей стране удалил тромб из артерии и предотвратил смерть. Трудно быть первым, да еще в полупровинциальной трехэтажной заводской медсанчасти середины шестидесятых годов. Помню и горечь того успеха: женщина была спасена от быстрой смерти, но суждено ей было умереть через два месяца от неоперабельного рака.
А как тут было поступать? Для врача — однозначно. Но сколько слышишь пустых слов о помощи умирающему — когда помощью называют ускорение смерти. Мы же, врачи, отвечаем: если общество считает себя достаточно нравственно выросшим, то — пожалуйста — решайте эту проблему. Но при чем тут мы, врачи? У нас в этой жизни совсем иная задача. Считаете возможным, нужным — ищите исполнителей.
Конечно, были у Миши принципы, и он старался их придерживаться. Например: если нет возможности — не делай. Героизм сам по себе не нужен никому. Гораздо лучше все подготовить, все сделать вовремя, спокойно, достойно, без фанфар и кликов, без чепчиков в воздухе. Жадкевич не относился к своим принципам догматически. Заранее подготовиться всегда лучше, но…
Были у него профессиональные привязанности — любые операции на толстой кишке при опухолях. Он разработал свою методику, успешно ею пользовался, и много больных до сих пор живут и здравствуют после удаления злокачественной опухоли. Потом оказалось, что лет за десять до Жадкевича этот способ применен был во Франции.
Жадкевич не писал статей — не потому, что не мог. Язык его был удивителен — с яркими сравнениями, неожиданной образностью, незатасканными метафорами. Может, лень было, потому и не писал. Он всегда делал лишь то, что ему хотелось и нравилось… Но это же помогло не поддаться скверне многочисленных соблазнов. Что ж, идеальных нет. Достаточно часто мы видим, как ценное и достойное уравновешивается, а то и дополняется грузом недостатков. Не грязью, нет — к Мише грязь не приставала. Он, как золото, в любой грязи оставался чистым и ярким.
Радуясь красиво и хорошо наложенному шву, он улучшал качество жизни конкретного человека, его семьи, его близких. А когда конкретных этих людей сотни, тысячи — лучше становилось миру. Не абстрактная любовь ко всему человечеству вела его, а любовь к хирургии.
Но все же… Все же хотелось временами рассказать хирургическому миру об удачном удалении тромба из легочной артерии, об уникальной методике операций на толстой кишке — ведь не до бесчеловечности же он был лишен честолюбия.
Но как воспримут новую методику, о которой доселе не слыхали? Новое всегда требует перестройки ума, а для этого нужны время, подготовка. Сообщение Жадкевича сразу же выявило обычную защитную реакцию укоренившегося и привычного. Конечно, в медицине консерватизм необходим. Бездумное, рискующее новаторство в хирургии может быть столь же опасным, как и в атомной энергетике. Но все же «сегодня» должно быть умнее, чем «вчера». Должно!
Выслушав сообщение Жадкевича, председатель, правивший в тот день бал, заключил, что предложенная методика безграмотна хирургически и онкологически. Если б в Обществе кто-нибудь знал, да и Жадкевич в том числе, что ту же методику предложил кто-то во Франции десять лет назад! Ведь нет пророка в своем отечестве!
Вспоминая то заседание, Жадкевич говорил, что для перестройки на новое надо прежде всего научиться не ругать чужое. "Необходимо перестроиться. Иной начальник, всякая проверочная комиссия считают своей главной помощью ругань. Ругань — это стресс, страх, а когда люди боятся, то, естественно, в ответ норовят задурить голову, обмануть, объегорить. Как страхом и руганью повысить человеческое достоинство, без которого немыслима никакая перестройка? Не страх же повышает достоинство?" Так всегда начинал с какой-нибудь хирургической байки и постепенно переходил к советам всему миру — как усовершенствовать нынешнее наше бытие.
Он был искренен в словах и в деле, всей своей жизнью подтверждал неизбывную, до самой смерти, искренность. Правда, в своей искренности он порой бывал излишне прямолинеен. Да, впрочем, как мне об этом судить? Искренность всегда излишне прямолинейна, жестка, жестока. Поэтому Жадкевич мог сказать коллеге, не обижая его: "Не чувствуешь в себе силы на операцию — не берись, не рискуй чужой жизнью. Охраняй ее, сохрани ее. Не бойся признавать себя слабым — для этого нужна сила. А сила растет на обочинах дорог осознанной слабости".
Я все пишу, пишу… Просто оттягиваю момент… Не момент — потому что умирание его было долгим исходом из жизни; оно было необычным и торжественным. Он уходил от нас как большой мастер, преподавший всем нам урок мужества, человечности, слияния с природой. Не роптал, успокаивал. "Что делать, — сказал он мне. — Так природа распорядилась. Жребий пал на меня. Кто же виноват?"
Он, наверное, давно заметил какие-то изменения в своем самочувствии. Мы-то теперь, задним числом, догадываемся, что перемены в характере были следствием уже давно точившей его болезни.
Пришло время, и он явно почувствовал нарастающую слабость. Потом начал худеть. И все мы, и он в том числе, проглядели. Однажды, закончив очередную операцию, он тут же, отойдя на два шага от стола, сел на вертящуюся табуретку, привалился к стенке и минут двадцать не мог подняться.
Это была последняя операция перед началом собственного лечения. Потом сказал: "Наверное, героизм наш ничего не даст — слишком запущена опухоль". Это он про больного сказал, не про себя. Медицина много умеет — знает мало. Миру больше нужно наше умение. А знания — наши трудности и заботы. "Многие знания — многие печали". Вот и в той операции еще раз проявились наши малые знания, уступив умению хирурга: больной этот вполне здоровым был на похоронах своего Мастера.
В кабинете Жадкевич перечислил кое-какие симптомы и заключил: рак поджелудочной железы. По общей, шаблонной. схеме, по методу общения с больными в нашем обществе первой реакцией должно быть отрицание, запутывание, успокоение. Почему-то первое у нас — не пугать, не расстраивать. Беспрестанно пугая и расстраивая, мы боимся сказать человеку главное. Когда болеет общество — тоже боимся расстроить.
Я что-то болтал… Он молчал, не прислушиваясь к моим словам, а потом продолжил: "Вы, конечно, будете обследовать. Мне о своих находках сказать можете… Как хотите. А вот Наташе говорить не надо".
Она была выученица Жадкевича. Когда они поженились, ей было чуть за двадцать — он уже был мастер. "Миша меня выкроил по своей мерке, я его порождение". Вышла замуж она терапевтом, но переквалифицировалась в анестезиолога-реаниматора. Может, в Книге Судеб записано ей: все свои знания и умения готовить к его последним дням? Глупо говорить ей спасибо, глупо и склоняться в благодарности перед ней, да нет в моем невеликом лексиконе других слов и понятий. Какое спасибо? Кому?! Кто говорит?! Она ничего особенного не делала — просто жила рядом с ним, это был ее воздух, она иначе не могла, не умела дышать. Она его любила и делала чуть больше, чем могла, чуть больше, чем знала, чуть больше, чем умела.