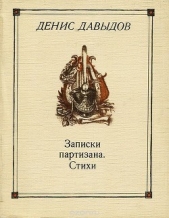Записки мерзавца (сборник)
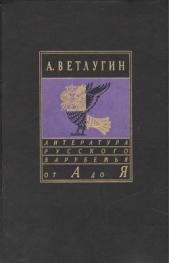
Записки мерзавца (сборник) читать книгу онлайн
Серия "Литература русского зарубежья от А до Я" знакомит читателя с творчеством одного из наиболее ярких писателей эмиграции - А.Ветлугина, чьи произведения, публиковавшиеся в начале 1920-х гг. в Париже и Берлине, с тех пор ни разу не переиздавались. В книгах А.Ветлугина глазами "очевидца" показаны события эпохи революции и гражданской войны, участником которых довелось стать автору. Он создает портреты знаменитых писателей и политиков, царских генералов, перешедших на службу к советской власти, и видных большевиков анархистов и махновцев, вождей белого движения и простых эмигрантов. В настоящий том включены самые известные книги писателя - сборники "Авантюристы гражданской войны" (Париж, 1921) и "Третья Россия" (Париж, 1922), а также роман "Записки мерзавца" (Берлин, 1922). Все они печатаются в России впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кружок его учеников напоминал античную школу, где ученики изучают со слов учителя не какую-нибудь определенную дисциплину, а постигают жизнь, целиком познают самих себя. Они клялись его именем, они настолько были подавлены его вкусами, его авторитетом, что, когда он увлекся Фрейдом и провел у автора "Психоанализа" целое лето, ученики начали записывать свои сновидения, начали по методу Фрейда разлагать каждый свой поступок на составные сексуальные элементы. Это занятие было уже далеко от духа права. Но гипноз действовал, но его глаза, его голос, его жесты не допускали возражений.
Финал бывал всегда печален: ученик, не сумевший преодолеть его чар, превращался в тень, терял без остатка собственную личность, променяв ее на эхо, на бескорыстное отображение. Более талантливые вовремя отходили и ссорились с учителем. Менее талантливых он скручивал и заставлял идти по своим следам...
Так единственный свежий, оригинальный, большой человек не сумел преодолеть соблазна и пошел по линии наименьшего сопротивления. Вивисекция без ножа, Мефистофель с Моховой... Сам он прошел школу большую и серьезную; школа же, основанная им, не оказалась ни большой, ни серьезной, ни долговечной. У него были огромные качества, но от него нельзя было перенять никаких традиций, т. е. того, что единственно способно заражать талантливостью.
Подражать ему было бы просто дурным тоном. Ибо его имя -- Иван Ильин. Ибо он возможен только в условиях жизни на рубеже эпох. Сила Ильина в том, в чем была слабость де-ла Барта. На его лице трепещут отблески зарниц.
Ильин не пытался создавать, он хотел сдвинуть угрозой застывшие умы, усыпить гипнозом жаждущую живой жизни личность и пробудить дух абстракции. Он яростно проповедовал победу. Он не выдержал натиска революции. Летом 1917 в речах, достигавших силы и... неубедительности Савонароллы, он еще раз попытался загипнотизировать взбунтовавшуюся плоть.
Оказалось, однако, что и его хватает лишь на десять-пятнадцать объектов. Симфония Скрябина восторжествовала над логикой Гегеля.
IV
Особняком держались так называемые неославянофилы. Частью они входили в приват-доцентуру, частью состояли из студентов и вольных без определенных занятий. Евгений Трубецкой, Булгаков, Бердяев, Рачинский, Гершензон заседали на славянофильском Олимпе, действующая же армия не отличалась ни заслугами, ни талантливостью.
Она являлась на все публичные диспуты, отсиживалась в многочисленных университетских семинарах, говорила больше, чем писала, работала совсем мало, предпочитая всему на свете газетные прорицания...
Неославянофильство отличалось двумя грустными признаками: одинаковым словарем и одинаковыми цитатами. В головах был хаос необычайный, идеи падали с первого попавшегося дерева, в презрении к "прогнившей культуре запада" каждый старался побить московские рекорды... Но и у юных, и у старых чемпионов речь составлялась одинаково; всеми использовался один и тот же раз навсегда изготовленный макет...
"Душа, взыскующая града", "Китеж" во всех падежах, "алчба" вместо "жажда", порочная косноязычная витиеватость, вакханалия за уши притянутых архаизмов, "путь в Эммаус", "путь в Дамаск", Павел и Савл и т. д. В этом безвкусии эпигонов заключалось великое возмездие для предтеч: началось мудреным ветроградом Вячеслава Иванова, окончилось юродством Дурылина, Устрялова, младшего Трубецкого и пр. Когда Вяч. Иванов, в предисловии к "Бороздам и Межам", дороговизну бумаги объяснял торжественной фразой -- "...условия переживаемого момента понудили (!) меня скупее соразмерить..." и т. д. -- элемент величавой манеры еще имелся, еще брезжили какие-то оправдания. Когда же закрученный недокисший Дурылин каламбурил -- "Ориген" и "Оригинальный" или начинал бесконечный период "Китежем", "Особенной статью", "теургией" -- становилось невмоготу, вспоминались слова Гоголя: "От ихних (славянофильских) похвал хочется плюнуть на Россию..."
Что со словарем, то и с цитатами. Двадцать-тридцать строк, надерганных из Тютчева ("Особенная стать", "Фонтан" занимали первые места...), обязательно Хомяковское "...ложится тьма густая на дальнем западе -- стране святых чудес", нередко Пушкинское "Клеветникам", во что бы то ни стало Соловьевский "Панмонголизм" и цитаты из Соловьевских же статей о национализме. Кроме этой "становой жилы" репертуара, время от времени для придания славянофильскому самовару совершенно ослепительного блеска насиловался Достоевский ("целование земли", земной поклон Зосимы, "не ты, не ты", отрывки из Пушкинской речи) или блаженный Августин. В обоих случаях вся бесчисленная армия молодых доцентов, студентов и просто котелков трогательно повторяла друг друга. В недобрый момент научили их искусству прокладывать пошлятину прозаических рассуждений стихотворными цитатами. В их руках это искусство обратилось в семинарскую систему писать сочинения или говорить речь. Сказано или написано точь-в-точь по Цицерону: вступление, изложение, заключение и т. д. Только Дух тяжелый...
Университетские семинары обратились просто в семинарию. Нынешний восторженный поклонник твердой советской власти Устрялов в его студенческие и доцентские годы напоминал молодого ретивого дьякона, мечтающего о том, как поп заболеет и он вместо попа молебен отслужит.
Тяжелую картину являли собой доценты-неославянофилы. Один к одному, люди плохо затверженных верхушек настоящего знания, лишенные какой бы то ни было серьезной школы, -- они топили слушателей в море условного словаря славянских трапез и бурсацких диспутов. Старшее поколение пришло к своей Осанне (как говорил Достоевский) чрез многие и многие бездны. У Булгакова за его славянофильством был длинный путь честной работы, и Булгаков стать вульгарным, завести бурсу не смог бы при всем желании. За младшим же поколением был лишь плохо прослушанный университетский курс; их славянофильство с кондачка, ради моды, или в силу истерии представляло серьезнейшую опасность для всего движения. Достаточно припомнить, в какой неприличный фарс выродились такие опорные пункты, как идея соборности и "национальный эрос".
Неославянофильские ублюдки болеют самой страшной болезнью -- собачьей старостью. Болтливые, как Хомяков, запутавшиеся, как Данилевский, усложняющие, как Булгаков, но... ни одного достоинства старшего поколения. Они могли спастись единственно в своевременной связи с большевистским скифством. Дикари, отрицающие культуру, даже не коснувшись ее поверхности, нуждаются в идеологах; такими идеологами легко могут стать неославянофилы.
Умирающий католицизм пытался найти поддержку в социальной революции; славянофильство, бывшее всегда лишь живым трупом, пытается одеть маску мешочника, красноармейца, спеца. Устрялов славянословит красную армию, а все остальные контрабандой протискиваются в третью Россию.
Меня очень обрадовало появление в Париже журнала "Смена Вех". Наконец-то все слова сказаны. Наконец-то московские доценты Ключников и Устрялов, сумасшедший адвокат Бобрищев и "просто котелок" Потехин перешли на дорогу, единственно правильную для эпигонов славянофильства. Традиционный макет, традиционные цитаты, стихотворные выдержки Устрялова, благоговейно сохраненная отрыжка московских собраний в Мертвом переулке у Маргариты Морозовой, приобретают особенный вкус на службе у коминтерна. От Чичерина старшего к Чичерину младшему -- от московской философии к большевистской разведке. Скифы угадывают скифов. Совершается процесс кристаллизации. Логика истории торжествует; деревенский бес с полуаршинным хвостом, пропахший баней, мужицким потом, заклинаниями попа, тот самый бес, которого в кабинете европейца Кони некогда увидел скиф Соловьев,-- ныне тихонько подсмеивается: давно пора!