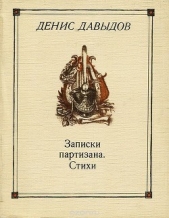Записки мерзавца (сборник)
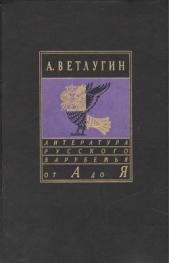
Записки мерзавца (сборник) читать книгу онлайн
Серия "Литература русского зарубежья от А до Я" знакомит читателя с творчеством одного из наиболее ярких писателей эмиграции - А.Ветлугина, чьи произведения, публиковавшиеся в начале 1920-х гг. в Париже и Берлине, с тех пор ни разу не переиздавались. В книгах А.Ветлугина глазами "очевидца" показаны события эпохи революции и гражданской войны, участником которых довелось стать автору. Он создает портреты знаменитых писателей и политиков, царских генералов, перешедших на службу к советской власти, и видных большевиков анархистов и махновцев, вождей белого движения и простых эмигрантов. В настоящий том включены самые известные книги писателя - сборники "Авантюристы гражданской войны" (Париж, 1921) и "Третья Россия" (Париж, 1922), а также роман "Записки мерзавца" (Берлин, 1922). Все они печатаются в России впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иногда из той, не имеющей никакого значения России приходят известия о новой буржуазии, новой интеллигенции и т. д.: угрожаем предать анафеме и считать "клочком бумаги".
Когда становится совсем невтерпеж от скуки и безденежья, затеваем споры о форме правления и некоторые намечают временного блюстителя престола: ставят на вид, что смеяться над этим нельзя, ибо форма правления есть вопрос целесообразности, а человек, бросивший камень в витрину колбасни, попадает в Комиссариат.
"Когда Россия восстановится...": почему Россия должна восстановиться, доказательств не приводят -- вероятно, по той же самой логике, по которой в 1914--17 -- "должны победить", в 1918 -- "после падения большевиков", в 1919--20 -- "ни Ленин, ни Колчак", в 1921 -- "аполитичность в борьбе с голодом"...
Какой процент среди двух миллионов падает на долю гренадерских румяных поручиков? Ответа не дают и требуют оставить "несерьезную манеру письма"...
Хотят играть в казачий штосс: других игр не признают. Хотят или Кирилла, или английскую монархию, или китайскую республику, или Савинковское зеленоуправство: других форм не мыслят.
Одним словом, так или иначе -- прихлопнуть каблуком в Московском дворянском собрании. И баста...
III
Моему племяннику, оставшемуся в Москве, -- двенадцать лет; моему племяннику, живущему в Париже, -- четырнадцать. Московский племянник вторую зиму ходит на Трубную и меняет гардины и дверные ручки, водопроводные краны и элементы от звонка на муку и хлеб, сахар и сало. Мужики предпочитают штаны, но лишних штанов нет ни у него, ни у его отца. Несмотря на это отсутствие товара, твердость характера и разнообразные конструкции матерной брани выдвинули московского племянника в первую шеренгу Трубных коммерсантов...
Юные торговки (бывшие смолянки) заглядываются на него и совершенно бесплатно показывают содержание и способы любви. С дежурным чекистом он на самую короткую ногу и часто заходит на Лубянку попить чаю с белым хлебам, принесенным родственниками выведенных в расход. Он уже давно разорвал с буржуазной моралью и у зазевавшегося мужика с ловкостью необычайной вытаскивает каравай или кусок сала. На "мокрую" он еще не идет, пока он лишь мечтательно смакует похождения какого-то Сеньки вохриста, ограбившего богородское казначейство. В гимназию не ходит: совпадает с самым горячим базарным временем.
Парижский племянник ведет несколько иной образ жизни. По утрам его мать вскакивает в восемь часов утра, чтобы проводить его в лицей: мальчик горячий и может попасть под автомобиль. Возвращается он по большей части на такси, так как на их метровой станции -- La Motte Picquet Grenelle -- более пятидесяти ступеней и мальчик задыхается. В кинематограф его пускают только на американские фильмы, потому что во французских неприличная любовь и скверные слова, а у американцев все приноровлено. Его никогда не оставляют одного в квартире: парижские горничные любят развращать мальчиков...
Когда парижский племянник приедет в Москву, ему легче будет разговаривать в зоологическом саду с шимпанзе, чем с его Трубным кузеном. В шимпанзе есть все же нечто, напоминающее американскую фильму.
Дай Бог, чтобы это случилось попозже: к тому времени, когда московский племянник уже пойдет по "мокрой части" и будет жить далеко-далеко за Уралом...
IV
Отец представителя Трубного именитого купечества пишет с радостью нескрываемой: "...Но зато о партиях у нас ни гу-гу. Правый, левый, центр, для нас кимвал бряцающий. Если кто-нибудь начинает что-либо обещать -- царя, землю и волю, парламентаризм -- освистывают, заплевывают, а иногда и морду бьют. Очень больно..."
Ну, слава Богу, если очень больно, значит шанс все-таки есть. Молодая Россия не любит слов -- это уже нечто. В истории молодой России не участвуют правые, левые, центр -- это прекрасно, это поучительно...
А гренадерские поручики все бредят, все удивляются, все добиваются казачьего штосса. Скука прескучная. Один и тот же беженец: для Риги -- "погромщик, черная сотня", для Белграда -- "террорист, разлагатель армии"...
Например, такая скромная вещь: собраться посоветоваться в парижском отеле "Мажестик"? Это что такое? "Контрреволюция, снаряжение бандитов!" -- кричат в Риге. "Масонский заговор, еврейские деньги!" -- отвечает Белград.
Все поручики пишут программу такой партии, чтоб и слово "демократический", и упоминание нации -- и царь легко подразумевался... Пуришкевич -- тот до самой смерти все писал, все кричал, все разоблачал. Сыпной бред начался у него за много времени до того, как врач диагностировал тиф...
Какие-то шуты гороховые собирались в Берлинской пивной для выбора временного блюстителя царского престола. Шуты хоть порадовали, а остальные поручики бубнят, стучат, гудят...
Хочу царя! Да зачем тебе, дикий человек, царь, что ты с ним делать хочешь? Хочу царя, у нас в полку всегда говорили, что нужен царь и еще тридцать четыре года назад, и вообще хочу, чтоб штосс казачий, а не какая-нибудь девятка или бакарра. Не хочу республики...
Такие поручики называются "правыми". У левых репертуар другой.
Хочу учредительное собрание! Да ведь оно уже было... Хочу еще раз и чтоб без всякой интервенции! Да ведь никто и не собирается. Все равно хочу. Еще тридцать четыре года назад в Женеве, в споре... решили... постановили... одобрили...
Поручики строят одну Россию, мой племянник со смолянками, с мужиками и с чекистом другую.
Одной нужны царь и учредительное собрание; другой штаны, хлеб и по возможности водопроводные краны. В одной -- правые, левые, центр; в другой -- Трубная площадь, теплушка, благодетельная деревня.
В одной возобновляются отрыжки истории мировой и отечественной; в другой пишется история новой России. Семь лет, тридцать миллионов трупов, красный террор, белые фронты, великий исход, пришествие мешочника -- все это стирается в России правых и левых поручиков: тридцать четыре года назад знали штосс только казачий -- Женеву и "у нас в полку"...
Россия Трубной площади не забывает ни одного часа в окопах, ни одного укуса сыпной вши, ни одного выстрела "Авроры", ни одной попытки, благословенной и проклятой.
Если б вернуться к 1914, что бы надлежало сделать?
Воевать!
К 1918-20?
Идти с Колчаком, Деникиным, Врангелем!
Потому что молодая Россия могла быть построена только на пепле, только на слезах, только на гекатомбе. Иного пути у нее не было. Колчаком, расстрелянным русскими солдатами, и двенадцатилетним мальчиком, торгующим штанами и изучающим любовь на Трубной площади, -- великая Немезида истории исполнила возмездие. Через все фронты, через все города смерти и души растленных она провела круг третьей России.
В этом большом, едином, внешнем концентре заключились все малые внутренние. Этих семилетних слез не изжить ближайшим поколениям; но за грань полустолетия и им не перейти. В душе правнука нет мести.
Третья Россия оправдана гибелью первых двух, оттого так ужасно лицо ее первенцев.
* * *
В этой книге нет ни сожалений, ни ненависти. Прощание с прошлым, готовность пред будущим. Любить же вообще очень трудно. Любить мы еще научимся. Пока мы проходим класс приготовительный -- любовь к року.
Пережив Керенского--Ленина, я больше не верю в реальность чудес, пережив пять белых фронтов, я больше не верю в чудеса реальности. И только любовь к року ни разу не обманула. Она никогда ничего не обещала, она повелевала: ты пойдешь так или тебя вообще не будет...
Amor fati {Любовь к року (лат.).} -- это поистине единственное достояние детей ненависти, отцов бесстрастия. Потерять его слишком легко: в опрометчивом милосердии, в преждевременной любви.