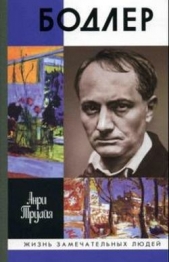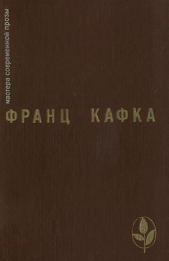Гибель всерьез
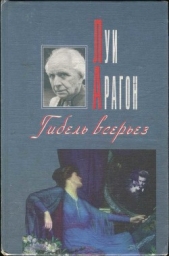
Гибель всерьез читать книгу онлайн
Любовь и смерть — вечная тема искусства: Тристан и Изольда, Джиневра и Ланселот, Отелло и Дездемона… К череде гибельно связанных любовью бессмертных пар Луи Арагон (1897–1982), классик французской литературы, один из крупнейших поэтов XX века, смело прибавляет свою: Ингеборг и Антуана. В художественную ткань романа вкраплены то лирические, то иронические новеллы; проникновенная исповедь сменяется философскими раздумьями. В толпе персонажей читатель узнает героев мировой и, прежде всего, горячо любимой Арагоном русской литературы. Но главное действующее лицо "Гибели всерьез" — сам автор, назвавший свой роман "симфонией зеркал, галереей автопортретов художника в разных ракурсах".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На такие вот мысли навело меня чтение «Эхо». И еще возмущение молчанием Омелы. Но я совсем не защищаю Антоана. В определенном смысле мне его жаль. Я готов причинить ему зло и поэтому заранее его жалею. Вот я вижу: стоит Антоан, в руках у него зеркало, но он не знает хорошенько, что с ним делать (не понимает, что уже что-то делает), — и меня охватывает лихорадочное нетерпение; как одержимый, я ищу способ отнять это зеркало и вместо Антоана отважиться на шаг, который поможет мне сбыться. Переубедить Омелу. Стать наконец самим собой, человеком с голубыми глазами и тигриной отвагой в сердце — отвагой, которая сметает с пути все преграды, разгоняет тучи, рассеивает чары литературных прикрас и в конце концов добивается того, что между мужчиной и женщиной возникает подлинный диалог, разговор-иносказание, разговор на языке романа, в котором я никому не позволю занять свое место героя, ревнителя любви, в котором не будет иной героини, кроме Омелы, и говорить мы будем нашим романом, ибо роман и есть язык любви, язык той реальности, что называется любовью.
И поскольку главный мой враг — Антоан, именно у него я и хочу вырвать зеркало. А у этого зеркала выведать тайну: что же отторгает от меня Омелу? Чтобы кончилось мое бесконечное отступление, чтобы с отступлением от Омелы было покончено, и оно было отброшено и позабыто! Ради этого я вновь возвращаюсь к красной папке, которую мне так неосторожно доверил мой черноглазый двойник, и достаю из нее вторую историю, которая продолжает, а вернее, дополняет «Эхо», уточняет «Эхо»-сновидение, где брезжит образ Омелы. В своей новой истории Антоан, похоже, набросал картину собственной жизни, до того как в ней появилась Омела. Сам он постарался стушеваться в этой истории, где еще нет никого из нас. Такая попытка самоустраниться объясняется, как я понимаю, накопленным раздражением, которым он не раз делился со мной. Он устал, ему опротивело, что критика в каждом его произведении видит лишь его всем известную общественную позицию, в каждом слове ищет политический подтекст, полемику или пропаганду, тогда как он занят совершенно иным, выявляя таинственные, подспудные связи и нити! В «Карнавале» Антоан в самом деле лишил себя отражения двойника, а если и наделил кое-какими особенностями своей жизни — жизни, наставшей для него много позже описываемой истории, то наделил ими вполне реальное лицо, человека известного, которого действительно можно встретить на концерте в Париже, куда он ходит вместе с женой, которую очень любит… Но и в «Карнавале», и в нарочито неправдоподобном «Эдипе» — я, кажется, говорил уже, что так называется третья история из красной папки, — разобраться можно, только прочитав их. Хотя я не уверен, между нами говоря, что и тогда что-то станет яснее. Однако прежде чем помещать здесь «Карнавал», я вот на что хочу обратить внимание: Антоан и тут не сдержался, ему снова понадобилась музыка, — услышанная на концерте, она навела его на мысли, навеяла воспоминания; музыка и дает мне основание подозревать, что на протяжении всего рассказа Антоаном владеет все то же безумие — безумие, которое толкнуло Эрика Доброго на убийство и которое превращает Антоана, меня, всех на свете Кристианов и всех других, кто слушает Омелу, в ее отражения, заставляя терять собственную душу, чтоб стать зеркалом ее души…
Музыка… кто знает, какая музыка превращает датских королей в убийц?.. Может, тот, кто играл в замке на цитре, выдумал джаз или канте хондо, пьянящий ритм фадо или волшебные мелодии «Парсифаля»? История Эрика Доброго не покажется невероятной тому, кто видел молодежь, беснующуюся под электрогитару битлов или Джонни Холидея. Музыка заставляет человека отказаться от себя.
Итак, я возвращаюсь к «Карнавалу» и, словно бы в подтверждение эпиграфа из Рембо, не узнаю уже того, кто рассказывает, — этого другого «я», совершенно другого всякий раз, как только этот «я» возникает в моей памяти. Другой? Значит, есть и еще кто-то другой? И я не один в этой стране сновидений, где то, что было, и то, что будет, смешивается в том, что есть.
Второй рассказ из красной папки
Карнавал
Я — это некто, кто не я. Артюр Рембо
I
Den Schatten hab’ich, der mir angeboren,
Ich habe meinen Schatten nie verloren.
Adalbert von Chamisso[76]
«Музыка — посредница между чувственным и духовным», — будто бы сказал Бетховен Беттине фон Арним. Мог ли я не вспомнить его слова, когда Рихтер заиграл «Карнавал»… хотя теперь я уже не поручусь, может, и что-то другое… тогда в зале Гаво, где ему заблагорассудилось играть, где завесили коврами стены и зажгли в канделябрах свечи, потому что ему так захотелось. Все было безумным в этот вечер — безумно поздно начинался концерт, который комиссар полиции мог отменить в самый последний миг, опасаясь беспорядков из-за безумного наплыва публики, заплатившей безумные деньги за билет, — Париж был без ума от гениального исполнителя; а безвкусное убранство зала, а безумные глаза самого гения на младенчески розовом лице, с венчиком светлых кудрявых волос вокруг лысины, лукавого гения, который держался так, словно собирался всех обвести вокруг пальца?.. Но что бы там ни было, второй или третий раз в моей жизни свершилось чудо: музыка, творимая руками божества, была столь совершенна, что мало-помалу исчезла, я слушал только себя.
Совершенная музыка обладает необычайным свойством: она очищает чувства от чужеродного; сердце и ум освободились вдруг от всего, что, казалось, их так занимало. Музыка, ширясь, оттесняла, стирала окружающее, как стирает его воспоминание, творя, нет, воскрешая давно позабытую картину — и в окно словно бы повеял свежестью алый снег. День клонится к закату. Просторная низкая комната, где я тогда сидел, видится мне неотчетливо, я смотрю на девушку в белой блузке с жабо, играющую Шумана, — худенькая, темноволосая, со страстным ртом, она подпевает сама себе — ла-ла-ла, — не давая пальцам сфальшивить. Зажженные свечи, освещающие желтым светом ноты на пюпитре, при закатном солнце кажутся зловещими. Что все Рихтеры мира… музыкой была наша встреча, мои двадцать один год, форма синего сукна с портупеей и красно-зеленым аксельбантом; нежданным безумием — молчание пушек (волею случая на этот раз мы обыграли смерть, без устали хохотавшую их громовыми раскатами); на продавленной софе с вышитыми подушками лежит рядом со мной книга, я вижу ее белую с голубым, под мрамор, картонную обложку и надпись:
«Die Weise von Leben und Tod des Cornetts Rainer-Maria Rilke», выпущенную «Insel-Verlag»[77]. В комнате беспорядок, тетради вперемешку с платьями и клубками шерсти, со стены смотрит Гёте, а из черной с золотом рамки — молодожены — он стоит, она сидит, — обвенчавшиеся, должно быть, в конце века.
«Песнь» я купил накануне вместе с «Записками Мальте Лауридса Бригге», томиком Арно Хольца, Ведекинда и Стефана Георге в книжном магазине на Мейзенгассе в Страсбурге. Полк мой ушел вперед, но я упросил майора, чтобы он «не заметил» моего отсутствия, чего там, я нагоню их, всего полчаса на поезде, денщик приготовит мне ночлег на новом месте… в общем, к ужину меня не будет. Честно говоря, мне спускали все, наверное, потому, что я был всех моложе… и, наверное, в память о заслугах прошлого лета, когда мы еще воевали. Нет, разок меня, тогда уже юнкера, посадили к унтерам, наказали, чем-то я там проштрафился. Но командир без меня заскучал.
К Шуману я всегда был неравнодушен: как услышу — словно пузырьки шампанского бегут по телу. Кажется, играю я сам, и весь мир, подчиняясь мне, выстраивается в такт Шуману. Как нов, непривычен казался мне поначалу дом, жилой, настоящий дом, а не развалюха сарай, набитый соломой, где мы отдыхали после боя, но спустя полчаса я и представить не мог ничего другого, как только эту комнату с ковром на полу, скатерки и салфеточки с помпонами на столиках и этажерках, хрустальные вазочки, немецкие безделушки, милый сентиментальный ералаш. И я уже не слышал музыкантши, как не слышал Рихтера сорок лет спустя. Зато видел ее. Она сидела в купе.