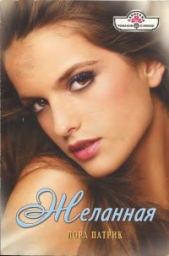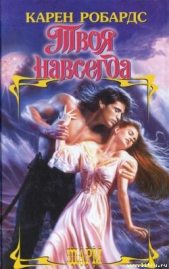Элиза, или Настоящая жизнь

Элиза, или Настоящая жизнь читать книгу онлайн
Героиня романа Клер Эчерли — француженка Элиза — посмела полюбить алжирца, и чистое светлое чувство явилось причиной для преследования. Элиза и ее возлюбленный буквально затравлены.
Трагизм в романе Клер Эчерли — примета повседневности, примета жизни обездоленных тружеников в буржуазном обществе. Обездоленных не потому, что им угрожает абстрактная злая судьба, представляющая, по мнению модных на капиталистическом Западе философов, основу бытия каждого человека. Нет, в романе зло выступает конкретно, социально определенно, его облик не скрыт метафизическим туманом: таков облик капитализма в наши дни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы зря теряете время. — На этот раз я была довольна своим тоном. — Вы говорите о ком–то другом, то, что вы сказали, меня не касается, вам отлично известно.
Ему понравилось, что я рассердилась. Мы проходили мимо обувного магазина, и неон витрины отбрасывал на наши лица переливы света. Арезки оттаял, я снова оказалась в его объятиях.
Те несколько секунд, что длилось это теплое и сладкое прикосновение, мой разум существовал отдельно, страшась, что как–нибудь вечером Арезки может вот так расцеловать меня на людях.
— Не говори никому, что мы бываем вместе. Завтра вечером жди, как сегодня, на станции Сталинград, с газетой.
Мы собирались пересечь улицу, чтоб войти в метро, когда Арезки оттянул меня назад.
— Подожди.
Он отступил в тень подворотни и внимательно поглядел на трех мужчин, расхаживавших взад–вперед перед лестницей.
— Расстанемся здесь, — сказал Арезки. — До завтра, иди быстрее.
— Но почему? А вы?
Он заверил меня, что все в порядке, но что нам следует расстаться, — казалось, он терял терпение. Я не настаивала. Он глядел сквозь меня. Я покинула его и пересекла улицу. Проходя мимо троих мужчин, я замедлила шаг и оглядела их. Ничто в их поведении не выходило за рамки обычного. Они, казалось, поджидали кого–то. Спустившись до середины лестницы, я остановилась и поднялась наверх, чтоб посмотреть, что с Арезки. Его высокий силуэт удалялся по улице налево. Один из мужчин, стоявших у входа, окинул меня беглым взглядом и возобновил свое топтание вдоль балюстрады, утратив ко мне интерес.
Я вернулась в свою комнату около одиннадцати. Поужинала фруктами и долго торчала перед зеркалом, висевшим над раковиной. Я искала перемен на своем лице, но их не было.
Арезки, встретившись со мной на станции Сталинград, заявил, что к Терн мы не поедем, там опасно.
— Поедем… в Трокадеро.
Мы поехали в Трокадеро. Мы вернулись туда еще раз, на следующий день. Мы гуляли по садам, где изморозь и туман воздвигли вокруг нас защитные стены.
Мы посетили площадь Оперы и несколько раз обошли кругом театра.
Мы пересекали мосты.
Мы запутались в улочках квартала Сен — Поль.
Мы кружили по бульварам вокруг церкви Сент — Огюстена.
Выйдя на станции Вожирар, добирались до Отейских ворот.
Улицу Риволи мы прошли от начала до конца и обратно.
И бульвар Вольтер, и бульвар дю Тампль, и переулки за Пале — Руаяль. И Трините, и Рю — Лафайет.
Почти никогда мы не возвращались дважды в один и тот же район. Было достаточно пустяка, сборища зевак, тени полицейской машины, прохожего, увязавшегося за нами, и прогулка обрывалась. Мы тут же расставались, приходилось возвращаться порознь. Эти незавершенные вечера, прерванные разговоры, тревога — покинуть его и уйти, не знать, ждать до утра, чтоб удостовериться, что не произошло ничего страшного, — бесконечно привязали меня к нему, в полном соответствии с банальным правилом: особенно ценишь то, что от тебя ускользает.
Он повсюду подозревал полицию. Я думала, что он преувеличивает. Я возражала, когда он говорил мне:
— Видишь, вон там, перед витриной, это топтун. Не веришь? Я ручаюсь.
— Допустим, но что тебе?
Мы шли дальше.
Облавы случались часто. Арезки опасался их.
— Но раз у вас документы в порядке…
— Думаешь, они смотрят на это?
И на следующий вечер мы меняли округ. Я перестала задавать вопросы, ни о чем не спрашивала. Шло время, мы встречались почти ежедневно. Я пыталась перейти с ним на «ты», так как «вы» его сердило. Мне нравилось его слушать. Язык его мягко раскатывал «р». Мы переходили от серьезного к смешному, подшучивали над товарищами по конвейеру. Я рассказывала ему о юности Люсьена, много говорила о бабушке. Он привык к ней, знал все ее странности, словечки, причуды. Мюстафа, бабушка, Люсьен, все эти персонажи, составлявшие наш мир, помогали нам познавать друг друга. Из стыдливости мы пользовались ими, чтоб говорить о себе.
В тот вечер, когда мы гуляли по парку Трокадеро и когда, выбрав темное место, он начал страстно целовать меня, я, напичканная прописными истинами, решила: ну вот, теперь он поведет меня к себе. Но этого не произошло. Наше согласие было чудом. Любой другой на его месте оказался бы нетерпеливее, смелее. Он проявлял сдержанность, и не только потому, что обстоятельства не благоприятствовали стремительному развитию наших отношений — ему доставляло удовольствие не торопить события.
Мы долго присматривались друг к другу со все возрастающей нежностью. На людях мы предавались игре в безразличие, когда малейшее движение, взмах ресниц, интонация приобретают огромное значение.
Каждый раз, расставаясь, Арезки напоминал мне о необходимости держать все в секрете, меня это несколько раздражало. Однако на самом деле такое положение вполне меня устраивало.
Шел дождь, подмораживало, мы шагали. Париж был бесконечным бульваром, таившим ловушки, мы двигались по нему, принимая нелепые предосторожности. Нежность разукрашивала декорации наших прогулок. Все казалось прекрасным. Дождь начищал до блеска мостовые, и одинокий огонек тупика дробился в них на тысячи переливающихся драгоценностей. Скверы приобретали прелесть провинциальных площадей, развалившиеся сараи казались старыми заброшенными мельницами. Наше счастье преображало Париж.
В те вечера, когда он не мог со мной встретиться, я восстанавливала силы, я бросалась на кровать и нередко засыпала одетая.
Сдержанность, которую я тщетно пыталась преодолеть, иногда сердила его. И, боясь, чтоб он не истолковал эту непреодолимую стыдливость, как отвращение, продиктованное расизмом, я наперекор себе шла на поступки, по моим представлениям, вызывающе–смелые, тогда как на самом деле они были всего лишь естественны.
Оба самоучки, мы взаимно обогащали друг друга. Он увлекался географией и сам недоумевал, откуда у него эта страсть.
Когда я чересчур много говорила о Люсьене, он переставал меня слушать. Это огорчало меня. Однажды, когда я вспомнила Мадьяра, он сказал мне мягко: «Оставь Мадьяра в покое и не слишком улыбайся ему».
Два или три раза я задавала нескромные вопросы, он не рассердился, но ушел от ответа. Я смирилась с тем, что буду знать о нем только то, что он сам пожелает рассказать. Мы редко говорили о войне, от нее и так нельзя было никуда уйти, она напоминала о себе взглядами прохожих, газетными киосками, провалами метро, ибо мы никогда не могли быть уверены, что назавтра увидимся. Мы говорили о конвейере. Арезки признался, что адский гул и скрежет в цеху действует на него возбуждающе, так же как шум бульваров. От тишины и покоя в нем просыпались страхи.
Он многое прощал Мюстафе и объяснил мне, опираясь на собственный опыт, почему тот так ведет себя на заводе по отношению к женщинам.
— Когда я начал работать в Париже, — говорил он, — у меня в глазах темнело, голова шла кругом. Здесь у девушек соблазнительные тела. Они влекут больше, чем наши женщины, по причинам… к красоте отношения не имеющим. Я обезумел от их присутствия. Я смотрел в землю, чтобы не видеть, как они двигаются, нагибаются. Там, дома, мы женщин почти не видим, здесь они — совсем рядом, только протяни руку. Представляешь, что это значит для Мюстафы, приехавшего из горной глуши…
— И многих из этих прекрасных женщин вы любили?
Когда я переходила на «вы», он понимал, что я не в своей тарелке.
Иногда он посмеивался:
— Кто из нас двоих слабо развит?
Шли дни. Наступили рождественские праздники. Но я не радовалась. Рождество стало тяжелым днем — днем без Арезки. По праздникам и по воскресеньям он всегда был занят. Неделя распалась на четыре прекрасных дня и три серых.
Я откладывала срок отъезда, отделываясь от бабушки ослепительными выдумками.
Непрочное равновесие рухнуло по вине Люсьена и Мюстафы.
Накануне Арезки сказал:
— Завтра поедем на бульвар Сен — Мишель. Во–первых, ты там еще не была, во–вторых, все наши места ненадежны. Уверяю тебя, тут полно полиции. Заметила ты субъекта, который поднялся, едва мы сели рядом? Значит, помни. Будешь меня ждать на станции Шатле. Шатле, как обычно, на платформе.