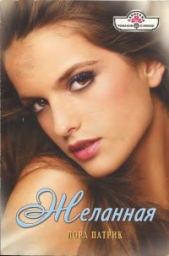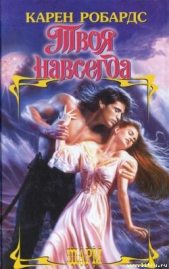Элиза, или Настоящая жизнь

Элиза, или Настоящая жизнь читать книгу онлайн
Героиня романа Клер Эчерли — француженка Элиза — посмела полюбить алжирца, и чистое светлое чувство явилось причиной для преследования. Элиза и ее возлюбленный буквально затравлены.
Трагизм в романе Клер Эчерли — примета повседневности, примета жизни обездоленных тружеников в буржуазном обществе. Обездоленных не потому, что им угрожает абстрактная злая судьба, представляющая, по мнению модных на капиталистическом Западе философов, основу бытия каждого человека. Нет, в романе зло выступает конкретно, социально определенно, его облик не скрыт метафизическим туманом: таков облик капитализма в наши дни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Маленький марокканец грубо оттолкнул меня. За ним стоял Жиль. Вернулся Мюстафа с ящичком гвоздей, опрокинул его перед носом Жиля и, не подумав собрать их, пристроился возле Арезки.
Тут в машину вошел наладчик.
— Это он, — сказал он, указывая на обернувшегося Мюстафу. — Я наблюдал за ним. Прибивая, он тянет материю, она рвется.
Жиль потеснил Мюстафу и отобрал у него молоток. Он внимательно осмотрел реборду, потолок и стал прибивать уплотнитель. Мюстафа ждал, наморщив нос и ругаясь по–арабски.
Жиль знаком подозвал наладчика:
— Ему приходится натягивать материю, чтоб она вошла под реборду, материя рвется… Вы кроите в обрез… Оставляйте на три–четыре сантиметра больше.
Мюстафа поднялся, насвистывая.
Жиль вылез, за ним наладчик.
— Ну так что мне делать? — закричал Мюстафа. — Продолжать или нет?
— Продолжай и старайся тянуть не слишком сильно.
И Жиль ушел.
Я была одна в машине. Арезки вылез несколькими минутами раньше. Я вышла из машины и обогнула ее. Мадьяр устанавливал задние огни. Коварная усталость пилой прошлась по мускулам икр. Я оперлась правой рукой о крышку багажника. Она покачнулась и захлопнулась. Я услышала крик Мадьяра. Он бросил инструмент и успел раньше меня поднять крышку. Но ее край на этом этапе конвейера был еще острым, как нож. По кисти и запястью Мадьяра текла кровь.
Я молча глядела на его раскроенную руку. Мюстафа, марокканец и еще один рабочий уставились на нее с таким же дурацким видом.
Мадьяр держался за запястье. Кровь текла ручьем. Он вытянул из кармана платок, твердый от высохших соплей, показал пальцами, что надо стянуть руку. Я наложила подобие жгута.
— Пойдем, — сказала я.
Он пошел следом за мной. Бернье на месте не было. Мы стали искать его. Другие смотрели на нас, я была довольна, что меня видел Арезки.
— Что случилось?
Подошел Жиль. Я объяснила. Он нашел в ящике Бернье талон в медпункт. Потом подумал и дал мне второй.
— Проводите его, он не говорит по–французски.
Мы прошли сквозь строй машин. Никто не свистел. На первом этаже, когда мы проходили мимо уборной, он остановился и сказал мне: «Пописать». Этому слову он тоже научился.
Я ждала перед дверью. Он не выходил. Я забеспокоилась, я боялась, что ему стало дурно, и, поскольку никого не было видно, приоткрыла дверь, чтоб посмотреть. Запах был тяжелый, как в стойле. Тошнотворный. Мадьяр приводил себя в порядок. Он вытянул полу рубахи, намочил ее в проточной воде унитаза и тер ею ладони. Я сделала ему знак: «Быстрее, быстрее». Он улыбнулся и показал мне одну ладонь, почти чистую.
На размалеванной стене были выцарапаны ножом требования:
«Наши пять франков».
«Душевые».
«Компартию к власти!»
Похабщины почти не было.
— Быстрее, — сказала я опять Мадьяру, который теперь протирал лицо все той же мокрой полой рубахи.
На правой стене большими неровными буквами, написанными торопливой рукой, было выгравировано: «Слав аль Жиру».
Это явно значило: «Слава Алжиру». Меня взволновало, что сделавший это не умел даже написать название страны, которую стремился восславить. Я вспомнила табличку Мюстафы: «Нет рогыть». Мне хотелось бы поговорить обо всем этом с Арезки.
Я объяснила сестре, как произошел несчастный случай. Мадьяр созерцал поющий чайник. Глаза его выражали полнейшее довольство. Он, должно быть, радовался, что успел привести себя в порядок перед тем, как попал в эту белую, теплую комнату. Для всех этих людей, перебрасываемых с завода в общежитие, или в барак, или в жалкие номера, медпункт был воплощением сладости жизни, роскоши, к которой они имели возможность приобщиться лишь изредка.
Я вернулась в цех и отдала Бернье талон.
— Что с ним? — спросил он.
— Его, наверно, отправят в больницу.
— Ох уж эти иностранцы, — вздохнул он, — везет им на несчастные случаи.
— Это моя вина. Я захлопнула нечаянно крышку.
— Придется докладывать, если он не вернется на работу. Я поставил на ваше место Доба. Ступайте.
Мюстафа, Доба и еще несколько человек подошли расспросить меня, подошел и Арезки. Мы обменялись коротким, ничего не значащим взглядом. Его глаза, необыкновенно изменчивые, отлично выражали смену настроений. И был у него этот взгляд — нейтральный, безразличный, пресекавший всякую возможность сближения.
Довериться брату? Какая идиотка. Я отлично знала, что не смогу ему ничего сказать. Язык не повернется. Да и о чем говорить? Все сводилось к четырем прогулкам по ночному Парижу, боязливым попыткам сближения и невероятным узорам, расшитым вокруг мною самой.
Бернье прислал какого–то алжирца, чтоб заменить Мадьяра. Наладчик подходил несколько раз, чтоб посмотреть, как Мюстафа натягивает пластик.
Я уже давно обнаружила подспудную враждебность между рабочими. Французы не выносили алжирцев, да и вообще иностранцев, ставя им в вину, что те, отбивая у французов работу, выполняют ее плохо. Общий труд, общий пот, общие требования — все это было, как говорил Люсьен, «напоказ», для лозунгов. А на самом деле — «каждый за себя». Большинство приносило на завод свои обиды, свое недоверие. Нельзя поддерживать травлю арабов за стенами завода и отстаивать рабочее братство внутри этих стен. Подчас это прорывалось наружу, и тогда каждый укрывался для нападения и обороны за своей расой, своей национальностью, точно в крепости. Профорг пытался улаживать конфликты, но внутреннего убеждения в нем не чувствовалось. Однажды, когда он принес мне билет и марку, я призналась, что поражена этим и разочарована.
— Это связано с бескультурьем, — ответил он мне ни к чему не обязывающей фразой.
Он и сам говорил «ратоны», «круйя» и злился на арабов за отказ участвовать в забастовке, выдвигавшей требование увеличить оплату на пять франков в час.
Конвейер остановился, прозвучал звонок. Мюстафа принес мне тампон с бензином, присланный Арезки. Это был знак. Он не хотел говорить со мной.
Я надела пальто и пошла к Итальянским воротам. Мне было необходимо двигаться, говорить вслух. Резкие порывы ветра вздымали волосы, секли лицо. Сытая толпа, в ноябре надевающая сапоги на меху и пальто на теплой подкладке, на пасху весенние костюмы, а в августе отправляющаяся на море провести отпуск, — толпа, зарабатывающая в поте лица деньги на развлечения, шагала, присаживалась в кафе и опускала глаза долу, когда на ее территорию проскальзывали чуждые ей, пугающие существа: истощенные, одетые и в ноябре по–весеннему, едва зарабатывающие на хлеб, хоть и они тоже трудились в поте лица. К счастью, этим существам были отведены специальные места — бидонвили, жалкие гостиницы. Они группировались там по землячествам: отдельно — алжирцы, отдельно — испанцы, отдельно — португальцы и отдельно, естественно, французы. Но и эти, впрочем, также делились на категории: алкоголики, лентяи, чахоточные, психи. У гетто есть свои преимущества. Но эти изгои умудрялись все–таки просочиться к нормальным людям, они оказывались рядом — в метро, в кафе, они были шумны, бестолковы, неумеренно пили. И если в одной из этих пародий на род человеческий, в темной холодной лачуге, среди отбросов, чудом разгорался свет, огонь, пламя, это сулило несчастному отверженному только еще большие тяготы.
Значит, это и есть настоящая жизнь? Вся эта мешанина и есть настоящая жизнь. Как сладка была та, прежняя, лишенная определенности, далекая от гнетущей правды. Простая, животная жизнь, расцвеченная мечтами. Я говорила: «Настанет день…» — и мне этого хватало. Вот он и настал, этот день, я живу настоящей жизнью, вместе с другими людьми, и я страдаю. «Не годишься ты в бойцы», — сказал бы Люсьен.
Я физически ощутила необходимость поговорить с ним и повернула обратно, к столовой. Люди выходили. Появился Жиль, узнал меня, я сказала, что жду брата.
— А я что–то не видел его. Подождите.
— Его нет, — сказал Жиль, вернувшись. — Место Люсьена как раз напротив моего, у меня впечатление, что он сегодня не приходил.
Жиль поинтересовался, как дела, я ответила, что хорошо, и вернулась на завод.