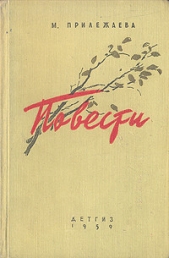Петруччио по характеру был добр. Не помню уже, говорил ли я об этом. За все годы общения с ним я никогда не видел у него не то, что свирепого, бешенного, а даже сильно рассерженного выражения лица. Может, это комплекция, его громадный рост, величина, сила не позволяли ему быть еще и злым, но он при любых обстоятельствах, в том числе и даже на охоте, где дремучая непосредственность отношений, оставался всегда добродушным.
Каким-то он стал сейчас? Изменился ли его характер? Не сказалось ли на нем теперешнее жесткое время?.. Потому что, мы ведь знаем, что творится теперь там, где крутятся сумасшедшие деньги… Что он вообще представляет из себя сейчас? С той последней встречи много воды уже утекло… Как бы хотелось просто встретиться, поговорить, спросить, как живет?.. Какие мысли на этот период исповедует? С кем общается? Что делает теперь вместо охоты?.. Потому что на охоту, я это знаю, он уже практически не ездит. Шура все-таки проболтался, хотя во всем остальном держится как кремень… Со старыми друзьями тоже не встречается, один Шура, но этот работает на него. И что значит жизнь мультимиллионера?.. Что это такое? Как он ощущает себя? Ведь он наш, из знакомого теста, что изменилось теперь в нем? Что меняется, когда человек становится олигархом?.. Не снится ли по ночам ему озеро Чаны? Как снится мне, скажем, весь зимний период года. И спится ли ему все так же спокойно? И об этом хотелось бы спросить… Да и доступны вообще все эти прежние, являющиеся до сих пор нашими, радости теперь ему?.. Да! Ведь еще дети… Колек, как он с ним там, какие отношения у олигархов с детьми?.. Другой мир, черт побери, ничего себе даже не представишь…
А он теперь большой влиятельный человек. Участвует в инвестициях городских проектов, делает смелые предложения по застройке целых кварталов, покупает заводы, банки, шахты. Участвует в благотворительных мероприятиях. Определяет во многом жизнь города. А там, соответственно, и жизнь страны…
И по слухам, да это и естественно, уже наполовину перебрался в Москву…
Вот ведь как получается, что из персонажа, о котором я размышлял в начале, стоит ли он вообще отдельного рассказа, Петруччио, достаточно мне было расположить свои воспоминания о нем в каком-то относительно последовательном связном порядке, неожиданно даже для меня самого сделаться сильной заметной броской значительной личностью, героем, достойным и описания, и даже восхищения. И я даже снова нахожусь в замешательстве, как мне с ним обойтись…
Мало того, в жизни Петруччио обозначился теперь какой-то экзистенциальный смысл, какой-то стержень. Какая-то важная составляющая. Которая в наших жизнях, занятых мелкой примитивной суетой или бесконечными межполовыми отношениями, в жизнях всех остальных моих охотников так до сих пор и отсутствует, и видимо, будет отсутствовать, что в глубине души меня, в общем-то, всегда восхищало, поскольку отсутствие подобного определенного стержня представлялось мне чертой, сутью и особенностью именно народной жизни,– а, следовательно, истиной в жизни вообще. Той сутью, с которой я впервые столкнулся и обозначил себе как «народность» еще в молодости на практике, после второго курса института, в далекой Восточной Сибири, в Киренском затоне, где работал монтажником и где впервые с этой народной жизнью соприкоснулся, и где начал накапливать весь тот опыт, впечатления и материал, который я здесь, в этом моем очерке, последовательно шаг за шагом использовал.
Там, в далекой глуши, я сделал для себя глобальный и шокировавший меня поначалу в те молодые идеалистические годы вывод, что жизнь народная, народный дух и смысл человеческой жизни, – заключаются не в служении идее, не в патриотизме, и даже не в религиозности, и даже не в самоотверженном труде, не в стремлении к свободе, или к какому-то, там, красивому американизированному уровню жизни, и прочее, и прочее,– а в этой вот совершенной ничтожности. И хотя я уже и был подготовлен к такому пониманию жизни книгами Бунина, Апулея, Рабле и Бокаччо, все-таки подобная ничтожность раздавила меня тогда.
У мужиков от мало до велика, а чем взрослее, тем откровеннее, любое движение в работе сопровождалось только этими ассоциациями, начиная с подъема баржи в затоне домкратами на поставленные на лед «чураки» до поворачивания гаечного ключа, у молодых девушек в бригаде палка самой толстой вареной колбасы непременно называлась «девичья радость», и частушки они пели тоже исключительно на эту тему. Я уж не говорю, насколько утвердился в этом выводе в армии, служа два года рядовым и обогащаясь казарменным фольклором, потом в дворовой Мишкиной компании спортсменов, охотников, в моих «бегствах» в природу, в «путешествия»… И завершила, так я полагаю, мое образование в народности и в понимании смысла жизни народа, заодно навсегда уверив меня в необъятности его, народа, творчества, встреча с егерем станции Тихомирово нашей Новосибирской области, куда из охотничьего общества нас посылали летом на отработку и где в запущенной, грязной, глухой и даже нищей, вымирающей в наше невероятно жестокое геноцидное время, деревеньке неунывающий балагур и средних лет мужик-егерь, пересыпающий свою речь прибаутками, подвел под эту простоту и всю остававшуюся для меня еще незатронутой неодушевленную жизнь, когда, начав запрягать на сенокосе в механическую косилку свою кобылу, с истинно народной фантазией заметил: «пока за поводом ходил, хомут седелке засадил…»
Или вот еще: «Гудит как улей родной завод, а нам-то, …, дышло ему в рот».
Или вот еще, уж совсем близкое и дорогое, про охоту: «Ей охота и ему охота, вот это, я понимаю, охота», – как говаривала одна наша наивная дворовая подружка из времен общей с Петькой ранней молодости, которую мы, конечно же, совершенно забыли и безвозвратно оставили позади. А ведь честно признаться, сколько все-таки глобальной мудрости в этой наивной простоте. И как Петька был обворожителен и мил именно тогда в этой своей, казалось бы, на первый взгляд, примитивности и непосредственности, еще до всех этих новых игр в дельных людей и без претенциозного статуса большого преуспевающего человека.