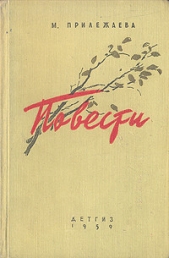Об особенностях половой жизни своих охотников я достаточно уже поговорил, но ничего еще не сказал об особенностях жизни охотничьей, а для меня рассказать об этом было бы едва ли не большим удовольствием.
Да и вообще, видимо, стоило бы восполнить этот пробел, потому что, как для женщины любовь – это, когда в мире интеллекта, рефлексии, самоконтроля и самоанализа, самодисциплины, вечного наблюдения за своими поступками, социальной психологии и соблюдения множества нравственных догм мечтается только о единственном… Не думать ни о чем, ни о сознании, ни о произведении впечатления, ни о разговорах об искусстве, ни о краске для ресниц, когда лишь раскинутые руки и полная и совершеннейшая искренность… То точно так же и для мужчины охота – это полностью отдаться всему, что есть природного и непосредственного в тебе…
Например, как охотился Шура. Он по семейной геологической наследственности и по присутствию какой-то части якутской крови, по-моему, бабушка у него была наполовину якутка, да и самого его выдавали скулы, – был из нас самым опытным, серьезным и самым метким. И, мне кажется, он лукавил, когда говорил о своей половой незначительности. Потому что в охоте он был страстен, я думаю, более остальных.
Помню, мы стояли с ним рядом на проточке между двумя Уймонскими озерами близ Усть-Тарки в открытие на перелете еще не пуганной после лета утки. И как утки летали с озеро на озеро над нашими головами. Их было так много и летали они такими стаями, что нас обоих просто трясло от возбуждения и жадности, и это возбуждение передавалось нами от одного к другому и мешало стрелять. Мы все перепробовали: и задерживали дыхание, и заставляли себя успокоиться усилием воли, и практиковали способ успокоения, заключающийся в пропуске одной или двух стаек уток необстрелянными над собой. Но не выдерживали, выскакивали из укрытия и стреляли опять по первой же стае, как по последней, потому что казалось, уж эти-то летят самым удобным образом и так плотно, что потом такого уже не будет, и что промах невозможен – и мазали в очередной раз. Из десяти выстрелов в цель мы попадали только один. Это в то время, как Шура на тарелочном стенде выбивал все десять.
Или вот еще с Шурой, когда он был молодой и не такой мрачный желчный брюзга, съехавший с роликов в своем алкоголизме – года по двадцать три – двадцать пять нам тогда было… – мы ездили открывать озеро Старо-Щухово в далеком Венгеровском районе, на котором никто из нас никогда не бывал, но которое долго было у нас на слуху. Чудное озеро, оно раньше принадлежала нашему же обществу охотников, старики рассказывали о нем не раз, но потом в связи с какими-то нарушениями – уж больно далеко и беспризорно оно находилось,– его отняли. И с тех пор о нем ходили только легенды… Мы с ним поехали искать его по карте. Было это в нас тогда: романтическое стремление в новые неизведанные края , трудно даже точно определить, что мы конкретно в далекой природе тогда искали, может быть, небывалое количество дичи, может быть, счастье охотничье, а может быть, счастье вообще, оно, это, было разлито для нас всюду и содержалось и в болотном ландшафте с чахлыми заморышами-сосеночками, и в виде с высокого яра излучены реки – а какие величавые и великие реки в Сибири, это мы все знаем. И в шумном хлопанье крыльев неожиданно вырвашегося из-под ног из травы выводка куропаток, и в шумных ударах сердца, когда ты скрадываешь сидящего на верхушке березы иссиня-черного краснобрового красавца-косача, и в совершенной дикости места, куда вы забрались, где нет ни людей , ни следов их пребывания и где на лугах даже траву не косят… Но переоценить то, что представляла тогда для нас природа, в частности, для нас с Шурой, было невозможно. У других дома могли быть работа, увлечения картами, шахматами, кино, семьи, учеба, для нас – не было вообще ничего. Хотя и была какая-то жизнь. И не являлись мы уж до конца неудачниками, как иногда представлял себя Шура, оба учились в институтах, я, вообще, в ближайшем будущем даже с отличием заканчивал его. Тем не менее, для нас, кроме охоты, ничего не существовало. А охота вбирала в себя все выше перечисленное.
Поэтому-то мы и могли с Шурой вот так, не зная расписания поездов, ни времени отправления автобусов, ни четкого местонахождения, оба больные, я в ангине и с высокой температурой, Щура тоже с горлом или, там, с похмелья, без всякой подготовки и осторожности выдвинуться в дальний путь и через три четверти суток спрыгнуть с попутки на подступах к брошенной, как мы к тому времени у местных жителей уже выяснили, деревни Старо-Шухово, после бессонной ночи в переполненном поезде, после мытарств с машинами и вообще еле уже держась на ногах.
Но что и делала всегда с нами природа, это спасала от всего. Как это пелось в одной песне, правда, совершенно про другое и о людях совершенно иных: «сигарета, сигарета, ты одна не изменяешь…» И хотя нам предстояло еще переть одну на двоих лодку на плечах, потому что тележку мы не взяли из-за экономии места. Тащиться десять километров, обливаясь потом, под солнцем, разбитым, с полными рюкзаками пожиток и патронов, по слабо наезженной дороге через брошенную деревню, потом полями, некошеным травостоем, осинниками, и когда уже в виду озера – с автоматически отмеченными нами на нем плавающими утками и огромными краснозобыми гагарами, – дорога исчезла, растворившись в траве, мы скинули на землю свои пожитки, бросили на траву спальники и заснули, едва упав на них.
И вот что делает природа… Сколько раз я уже замечал, даже помню в весеннюю еще холодную погоду, когда мы с тем же Шурой ездили на косачиный ток и спали, я опять с температурой и ангиной, в палатке на еще мерзлой земле, на природе проходит все в считанные часы. Любая болезнь. Будто как в сказке мать-сыра-земля отдает тебе силу. И поэтому, когда мы с Шурой проснулись часа через три в своих спальниках, мы проснулись уже полностью, абсолютно здоровыми.. Вокруг пахло травой, цветами, светило вечернее солнце, было начало бабьего лета, у самого лица по земле и травинкам ползали какие-то жучки, а в отдалении блестел озерный плес.
А места там были действительно сказочные. Урман – начало бесконечной и уходящей на Север непроходимой тайги. Урема реки Омки…
Уместно будет тут упомянуть еще о связанном с именем Шуры понятии «дачники». Это он придумал это слово, которое стало в нашей жизни самым бранным. Самым оскорбительным и обидным, хуже матерного. Ни к чему больше на свете не span style=испытывали мы большего презрения как к дачникам… Как я сейчас понимаю, «дачники» – это были наши конкуренты по общению с природой, нежеланные для нас соседи по среде обитания, и мы ненавидели, презирали их как только могли, до омерзения. «Дачники» вмещало для нас все: и цивилизованность, и крохоборство, практичность, трусость, беспокойство за свою вонючую жизнь, скопидомство, потребительство. Шура был апологет дачененавистничества, не было греха, которого он не вешал на отдыхающего со своими шашлыками на природе горожанина, ненависть вызывала одна его шляпа, не говоря уже о страсти окультуриваться, обустраиваться, комфортизироваться, улучшать природу, осваивать, оседать.
Черта потомка покорителя неосвоенных и диких земель. Особенность сибирского менталитета.
Или вот Сашка Сербенко, мой, помимо охотничей компании, еще и школьный товарищ, который принес из школы в нашу охотничью компанию мое прозвище «Михельсон», любитель заячьей охоты, по поводу которой у него с Ленькой Мельниковым был всегда злой спор, поскольку Ленька все время говорил, что заячья охота скучна и малоспортивна, что зайца с его скоростью в три раза меньшей, чем у утки, гораздо легче подстрелить, на что Сашка всегда заводился с полоброта и говорил: а ты попробуй!.. Тот с Ленькой вообще даже наставляли на охоте друг на друга заряженные ружья. Тогда как обычно по заведенной привычке, помня о множестве бесконтрольных случайных выстрелов, мы стволы всегда держали в сторону от людей. Даже незаряженные. Удивительно преображает людей охота, что тот, что другой, они в жизни даже никогда ни с кем толком не подрались, бить людей не поднималась просто рука, было стыдно, неинтеллигентно как-то, самое большое, что могли, это от физической боли в ответ дать сдачи, – и они с Сашкой, всегда хорошо относящиеся друг к другу в городе и составлявшие, включая меня, тех немногих, которые в отличие от Петруччи и остальных спортсменов никогда не говорили о своих секс-похождениях, прочитавшие больше всех книжек и понимавшие себя интеллигентными людьми, на охоте, именно на зайца, в исступлении наставляли друг на друга заряженные стволы, глядя друг другу с ненавистью в глаза, имея всего-то и повод опять малоспортивность заячьей охоты, но, по-настоящему, правда, обоюдную досаду из-за не взятого ими зайца, из-за того, что заяц угадал под чье-то третье ружье. Сопровождая все это разговором типа: – Неспортивно, говорит, а сам попасть не может!.. – А ты-то что смазал! – А ты что сам? Спортсмен!.. – и Мишке пришлось их даже разнимать. Именно Мишке, как всегда, никто другой, конечно, и не отреагировал бы мгновенно в таком случае – он становился между ними и разводил ружья с искренним беспокойством что-то бормоча, типа: «вы чего, парни? Вы чего?» – под перекрестием их люто, до озверения ненавидящих друг друга глаз.
В дремучей своей мифологической глубине охота, убийство, кровь, алчное выражение глаз, желание собственности, соперничество все-таки так туго и сильно сплетаются в один узел, что, вбирая в себя попутно еще и зов пола, становятся вообще чем-то зловещим. Причем, никакая это не сублимация, не замещение, не «стравливание» пара чувственности – охота наоборот располагает к чувственности – не освобождение от агрессивности и сексуальной озабоченности через реализацию себя в убийстве, не компенсация, нет, это, напротив, всплеск всего чувственного и естественно-бессознательного в тебе. И все это так сильно, что подчас сам себе дивишься. И горят глаза, и дрожат руки при виде стаи уток и просыпается жадность, умопомрачение, беспамятство точно так же, как при виде объекта половой страсти и любви.
Да и честно признаться, есть еще и веселье в убийстве, в картине кубарем падающей с высоты сбитой тобою птицы. Вот, на перешейке, в самом узком месте озера Лебяжье в Купинском районе, после того как на двух зорьках мы всей командой не совсем удачно расстреляли почти все свои патроны, мы обнаружили окопчики, вырытые охотниками когда-то до нас и объяснившие нам то, как нужно, оказывается, в этих местах охотиться. В них, в мелких и полуразрушившихся, можно было залечь и спрятаться. И эх, какое мы открыли там для себя веселье!.. Это было похоже на стрельбу в тире. Не утром на зорьке, когда обычно таишься, тщательно маскируешься, выслеживаешь, хлюпаешь в воде сапогами, пыхтишь в камышах, дожидаешься внезапного, как молния, появления уток над головой, чтобы мгновенно среагировать или уже остаться с носом, когда каждым трофей вымучиваешь и им живешь… а днем, когда обычно совсем и не охотишься, на сухом, заняв позицию как на стенде. И предупреждая друг друга задолго о появлении в воздухе очередной утки криками “с моря” или “с берега” – после чего все жмутся к земле и вбирают головы в плечи. И я там, несмотря на то, что в своей охотничьей эволюции, заключавшейся в моих продолжившихся поисках все более первозданных мест и непуганой дичи, к тому времени приобрел в охоте определенные трудности, связанные как раз именно со стрельбой в дичь: стрелять мне стало сложно, мешала рефлексия, жалость и какое-то осознание греха, что было тогда еще совершенно посторонним явлением для пути моих охотников, – тем не менее, там, со всеми, я расслабился и испытал прежний охотничий азарт. День был ветреный, и утки часто перелетали с плеса на плес через наш перешеек, некоторое время делая круги над озером, чтобы быть в безопасности над нами, и заходили на нас уже на неимоверной высоте. Но мы доставали их и там. Особенно повезло как раз тогда мне: у меня и патронов оставалось больше, чем у всех, я в связи с моим новым отношением к охоте “просозерцал” две зорьки, безмятежно лежа в лодке посередине озера в куртинке тростника, да и стрелял в тот раз на редкость хорошо. Даже обстрелял Шуру, и мне приятны были иногда несущиеся из дальних окопчиков завистливые возгласы наших мужиков, вынужденных экономить последние оставшиеся заряды: “Надо же, Михельсон опять сбил!..” А утки по одной или по несколько заходили на нас опять, мы вжимались в землю, потом вскакивали и встречали их канонадой. И приятно было видеть, как иногда утка, пролетев невредимой несколько десятков метров под сопровождение череды выстрелов, опять падала после последнего моего. Шура самолюбиво и хмуро забивался обратно в свой окопчик, остальные мужики, откровенно матерясь, меня проклинали, а Петруччо, у которого патронов вообще не было, он их еще утром на последней заре, немилосердно мазая, просадил в белый свет, и которому в окопе вообще делать было нечего, демонстративно и открыто, сводя на нет всю нашу маскировку, ходил метрах в пятидесяти впереди нас по урезу воды, и нагло собирал себе с мелководья наших подранков. С вызывом заявив, что все, что упало на воду, – его.
Кстати, зачем охотился Петька, вообще было трудно понять. Он вообще не попадал влет. В досаде лишит жизни где-нибудь на мелководье парочку “сидячих” куличков и сам щиплет их дохлые тушки на стане и уверяет всех в том, что мясо их самое нежное и вкусное.
Или как охотился Ефимка… Не особенно часто, но все же стабильно попадая, всегда стрелял по очереди из двух ружей, одно из которых было для экономии маленького тридцать второго калибра, расходующего очень мало дроби и пороха, и в некоторых случаях оказывающегося очень полезным. (Один выстрел по стоимости – полулитровик пива, – говаривал Мишка о наших ружьх, – просто иногда рука не поворачивается стрелять). Ефимка всегда занимался заготовками, как в саду, на огороде, так и тут, обстоятельно обрабатывая битые тушки, с каких снимая шкурки, а какие ощипывая, опаливая и потроша, – и укладывал подсоленными ровными рядками в специально изготовленный им ящик. Чем всегда выводил из себя чуждого хозяйственности Шуру, чьи утки всегда бесхозно валялись неразобранными в камышах. Шура не мог смотреть спокойно на все эти обстоятельные приготовления и начинал зло и ядовито бурчать откуда-нибудь из отдаления, полулежа в полной праздности, как и все мы после обеда, растомленные полуденным солнцем, на земле.
«Зато будет чем кормить семью! Ефим-Ага, – так он звал почему-то Ефимку, – в голодную зимнюю пору, когда вьюга и снег, будет грызть ножку заготовленной им осенью впрок кряковой утки. Людмила сварит ему картошку, ну и халявный обед будет готов, не надо тратиться на мясо, кровно заработанный рубль останется в семье…»
Ефим молча сносил издевки, Шура же говорил без тени улыбки, с выражением угрюмой злобы на лице, и было удивительно, что они еще недавно ездили вдвоем на открытие охоты, а еще год назад вдвоем одни ездили на двух мотоциклах за пять тысяч километров к Черному морю. И как только не перегрызли друг друга?!. Ведь Шура проклинал его после поездки, рассказывая каждому из нас, как останавливался тот у каждого колхозного огорода, в каждом городе, ни одного не пропустил!.. – на что Ефим чистосердечно удивлялся: – Ну, едем мимо персикового сада, ну, почему не остановиться, не поесть, ведь когда еще поесть в Сибири персиков удастся, а тут они валяются на земле… В городе почему не сходить в музей?.. – Можно, конечно, представить, чего натерпелся с ним Шура. «Ну, а не удалась охота, – продолжал язвить Шура уже совсем не к месту, но, тем не менее, касательно Ефима, по поводу самой ненавистной для Шуры манеры Ефима оптимистично воспринимать мир, повторяя как-то сказанную тем после неудачной охоты и ставшую у нас крылатой, правда, воспринимаемую в ироничном смысле, фразу: «Зато узнали что-то новое!» (Это после дождей, холода, невзгод,!) – Что-то новое узнали, так, ведь, Ага-Ефим?..»
Ну, а Мишка тем временем из своего окопчика щедро поливал по всему летящему, находясь в блаженном состоянии алкогольного кайфа, довольный, что все вокруг так дружно и что можно поговорить прямо из окопа с соседями, изображал походно-военную жизнь, с фляжкой водки, которую он норовил пустить по кругу, как гранату.
И нельзя не сказать в заключение, что эта оргия непосредственности, это сонмище дремучих эмоций, эти переливы самолюбий, гнева, ненависти, зависти, злости и торжества, будоражащие нас, доставляющие нам радость, не сдерживались нами ни на йоту, выказывались нами охотно, без маскировки, открыто и торопливо, потому что в глубине-то души мы все же всегда понимали, что все это лишь дозволенный нами самими и на время, на период охоты, нахождения в поле, спектакль. Что вся эта свобода инстинктов и самолюбий, непосредственностей, ужасов, агрессивностей для нас, изначально цивилизованных, – не взаправду, что все это, за исключением, может быть, лишь прерванной жизни сбитой тобою утки, всего-навсего только игра.
Или как мы ездили в Чулым за зайцами. Все той же компанией, Шура там был, Сашка Сербенко, Мишка, Петька, может быть, за исключением Ефимки. На Мишкиной «Ниве». На открытие, первого ноября. Это было в те времена, когда они уже все стали на охоте пить. И не где-то в конце дня у костра, а с самого утра. Причем, это у них называлось вполне невинно: перекусить.
Только продрали глаза после долгой ночной дремы в машине, пока Мишка, один, в сущности, бодрствуя, вез всех к рассвету на место, и выскочили из машины в утреннюю синь, обежали по первому снегу вокруг колка, так в Сибири называют березовый островок в поле или степи, вытаптывая зайца – одни стоят с одного конца с ружьями наготове, а другие с противоположного конца нагоняют вероятностного зайца на первых, проходя сквозь колок насквозь, валя сухостой, наступая на сучья, стуча палкой по деревьям, крича, пугая и шумя… Бывает пустой колок, бывает, и спугнут зайца и нагонят на стрелков, а иногда он прошмыгнет где-нибудь сбоку вне выстрела, вот когда поднимается суета, стреляют издалека, бегут наперерез, чтоб хоть на несколько метров быть поближе, но не так-то просто издалека в зайца попасть, пытаются окружить его в другом колке, что тоже редко удается, потому что спугнутый заяц становится практически неуловим…
Взяли в кольцо еще один колок. Может быть, убили, а, может быть, и нет, но, тем не менее, возвращаются к машине возбужденные.