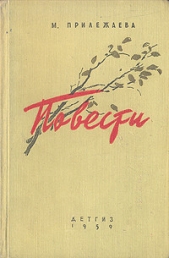Мы выбросили на песок вещи. Пока Петруччо разбирал сети и ставил палатку, я съездил на разгруженной машине по подветренной за день травяной дороге к стоящему километрах в пяти ближайшему и единственному березово-осиновому колку и притащил, зацепив за бампер, волоком две упавших сухих осины, чтобы, кроме паяльной лампы, у нас был еще по вечерам настоящий огонь.
Потом мы покидали вещи в палатку, канистру с бензином из предусмотрительности отнесли в камыши. Это единственное, что у нас крали за все годы из вещей, оставленных без присмотра. И поэтому на всякий случай, помня, какой дефицит бензин в этом глухом углу, спрятали его подальше.
А между тем, с самого приезда, пока все перечисленное делали, мы время от времени с нетерпением посматривали вдаль на озеро, с волнением отмечая, где и как летает утка. Какой породы в этом году больше, как себя ведет, много ли северной, ушла ли местная. Через какие места чаще всего перелетают стайки, где снижаются. Долго провожали каждую стайку глазами.
Ну и, наконец, выплыли в озеро. Наспех побросали в лодки самое необходимое и один за другим погребли на плес, расплываясь в противоположные стороны подальше друг от друга, чтобы уже окончательно остаться каждому одному, наедине с долгожданной стихией любимого озера, с его жизнью, с его прелестями, тишиной, спокойствием или, наоборот, волнением, пронзительным ветром и одиноко и нудно шелестящим звуком листьев тростника, к шелесту которого ты, тем не менее, с умилением прислушиваешься, как к музыке, и к которому, набрав стеблей погуще и сжав их в пучок, тебе еще надо привязаться, потому что там, где мы старались замаскироваться в тростнике, чтоб быть поближе к перелетам уток, глубины были большие.
Забыл сказать, что самым наипервейшим делом, какое мы всегда проделывали по приезду, это шли смотреть насколько в этом году в озере много воды. Подходили к берегу и по памяти сравнивали уровень воды с прошлогодним. И по наполненности озера устанавливали, где в этом году нужно на перелет встать. На Чаны мы ездили уже не один год, и даже не один десяток лет, и уже знали о существовании цикличности в наполнении озера водой и о том, что уровень год от года не одинаков. Что существуют малый и большой циклы, что большой вписывается в протяженность в восемь лет, а малый в два-три и в определенном смысле зависит от дождей или, напротив, от засушливого лета, а все вместе от уровня грунтовых вод. В свое время мы очень горевали, вслед за экологами-горюнами, когда считали что озеро погибает, высыхая, как все и везде от техногенного воздействия и вредного промышленного производства. Пока однажды в конце восьмилетнего цикла, совпавшего с какими-то еще блгоприятными причинами, мы не приехали осенью на озеро и не узнали его по тому, насколько уровень его поднялся: несколько метров прибыло в высоту, а берега ушли местами на несколько километров в степь. И с тех пор относились к падению уровня воды трезво, каждый раз ожидая, что будет еще праздник, и уровень воды вернется, и будет опять изобилие и рыбы, и дичи, и воды. Вода придет, и мы каждый раз с нетерпением старались узнать еще летом, какой уровень в этом году, и спрашивали, еще находясь у себя в городе, интересовались у своих же ребят, кому посчастливилось туда съездить, например, на летнюю рыбалку, как в этом году обстоит дело с водой, чтобы знать, чего ждать на охоте осенью.
А тогда, поскольку уровень в тот год держался все еще высоким, на том месте, где был мой перелет, пришлось привязываться особенно тщательно, воткнув в дно озера четыре шестика и притянув к ним борта, чтоб можно было спокойно встать на дно лодки и не бултыхаться.
И вот когда ты уже поднялся головой над тростником, то обозрению твоему открылась огромная даль воды.
Еще уплывая, я долго слышал Петьку, как он невидимый, скрытый за островками камыша, ставил сети, как бил обухом топора по тычкам, как гремел о алюминиевые борта веслом, но теперь, когда мы расплылись максимально далеко и обосновались на своих выбранных местах, Петруччо не слышно стало вовсе. Вокруг стояла тишина, лицом ощущался слабый ветер, и обзор был во все стороны света. Вдалеке у края тростников я видел плавающих нырковых уток, на западе шло к закату солнце, старавшееся проникнуть лучами под низкий облачный свод, а позади меня тянулось бесконечное море тростников, в которых движения, казалось, не происходило никакого. И так продолжалось долго, несколько часов. Я поворачивал голову из стороны в сторону, охватывая взглядом пространство, которое мне было дано в обладание, ту часть мироздания, какая, казалось, принадлежала в тот момент мне, а я ему, чуть досадуя на долетавшие изредка откуда-то издалека со стороны Амелькинского плеса звуки выстрелов, нарушавшие такую тонкую слиянность с зарей и близость к чему-то томительному, может быть, к Божеству, кто знает, и все смотрел и смотрел вокруг, иногда приседая, когда мне казалось, что на меня заходит какая-нибудь очередная стая уток, чтобы спрятаться за метелки тростника, иногда стреляя, иногда сбивая, но, тем не менее, все равно постоянно ощущая свою уединенность и пребывание с Создателем накоротке. Даже и Петькины выстрелы мешали мне,– это только к ночи ближе, а то и глубоко ночью, вместе с приливом животной тревоги перед темнотой, может появиться желание разделить с кем-то это пространство, и мироздание, и тишину его, и твое обладание им, и твое умиление; прийти на стан к костру, обрадоваться встрече и о «единственной» заговорить…
А пока я, да и Петька, думаю, в свою очередь, тоже, наслаждались каждый своим одиночеством, возможностью вырваться из городской, и всяческой человеческой суеты. Чтоб затеряться, как в скорлупках, в своих лодках среди полной дикого произвола и Божьего промысла бескрайности воды…
Приплыли мы на берег поздно. Опять начал моросить дождь. Мы расползлись каждый по своим спальным местам, я в машину, Петруччо в палатку, чтобы перетерпеть там ночь, а утром, еще до рассвета, покинуть нагретый спальный мешок и, дрожа от холода, натянув на себя сырую, даже и не думавшую высыхать при этой влажности воздуха, и, мало того, еще более отсыревшую, одежду, скипятить, все так же продолжая стучать зубами, на паяльной лампе воду, выпить чаю, и опять грести в озеро к своим «скрадкам», чтобы стоя в камышах, возвышаясь головой над тростником, встретить хмурый тяжелый рассвет.
Светало долго. Солнце не смогло пробиться сквозь плотную завесу туч, и лишь восток сначала посветлел, и от камышей упали на воду серые тени. Но потом небо постепенно сделалось светло-серым все. Стало далеко видно. И можно было различить берег на противоположной стороне отноги и камышовые острова на Чанах вдали. Пошла утка. Несколько раз утки вышли на меня хорошо. Небо то поднималось высоко, и тогда откуда-то дышало холодом, и тучи становились сизыми и рельефными, то опускалось низко, и начинал моросить нудный бесконечный дождь, полоса рыхлых облаков и стена дождя приближалась постепенно, по воде это хорошо было видно. Теплело, листья тростника вокруг начинали шуршать от дождя, и приходилось накидывать капюшон штормовки.
С Петруччей мы опять вернулись вместе. По крайней мере, спылись у прохода к нашей «пристани» одновременно. Петька еще задержался на глубине, чтобы, хапужничая, поставить третью или, там, четвертую сеть. Я же свою первую и единственную, которая будет приносить мне каждый день несколько килограммов подъязков, а то и несколько штук пеляди, не мудрствуя, бросил еще вчера на мелководье. На берег Петька выполз меня чуть позже.
Было еще часов десять утра, и впереди был целый день. И уже день-то был наш. На охоте зорьки это как повинность, на охоте зорьку, утреннюю или вечернюю, тебе даже в голову не придет пропустить, это святая обязанность их отстоять, но день – это отдых и расслабление, когда можно дать своей лени волю. Можно поваляться, надев на себя ватник и овчинный полушубок на берегу, можно поспать, можно, ничего не делая, посмотреть в степь, можно – появиться такое желание – почистить зубы. Потрепаться можешь с напарником, выпотрошить рыбу, сварить уху.
После обеда мы вздремнули, а когда проснулись, шел снег. «Белые мухи», которые легко летали в стылом воздухе на фоне темно-синих блестящих туч и которые вскоре исчезли. Но небо все равно осталось мрачным, воздух холодным и, несмотря на полуденное время, было темно, и все это походило на начало зимы.
Как бы там ни было, Петруччо, основательно обустроившись у входа в свою огромную шатровую палатку с врытыми на случай сильного ветра ее стенками в землю, в меховой куртке, в брезентухе и в ватных штанах, ничуть не обращая на снег, холодный ветер и суровость погоды внимания, готовый ко всему, готовый все сносить, сидел в своем широко разложенном парусиновом кресле со стаканом алкоголя в руке и, неторопливо прихлебывая из него, – пока я у паяльной лампы доканчивал щипать для обеда второго селезня-крякаша, – хмуро, зло и мрачно, в тон хмурой и мрачной погоде, философствовал: