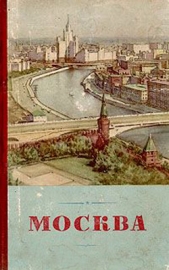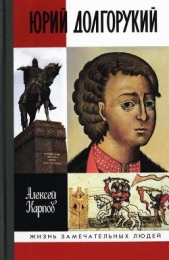Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник)

Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник) читать книгу онлайн
ДВА бестселлера одним томом. Исторические романы о первой Москве – от основания города до его гибели во время Батыева нашествия.«Москва слезам не верит» – эта поговорка рождена во тьме веков, как и легенда о том, что наша столица якобы «проклята от рождения». Был ли Юрий Долгорукий основателем Москвы – или это всего лишь миф? Почему его ненавидели все современники (в летописях о нем ни единого доброго слова)? Убивал ли он боярина Кучку и если да, то за что – чтобы прибрать к рукам перспективное селение на берегу Москвы-реки или из-за женщины? Кто героически защищал Москву в 1238 году от Батыевых полчищ? И как невеликий град стал для врагов «злым городом», умывшись не слезами, а кровью?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Покидал храм со смешанным чувством раскаяния, тревоги и смущения. К нему подходили поп, дьячок, Пургас и что-то говорили, он отвечал невпопад, рассеянно. Тут-то и добил его чернец.
Федор догнал Василька подле придела и, отстранив шедшего рядом Пургаса, шепнул на ухо:
– Татары Рязань взяли!
«Вот она, Господи, твоя кара!» – ужаснулся Василько и застыл как вкопанный.
– Служка митрополичьего волостеля прибежал к попу из Москвы. Он еще с попом не виделся, но мне поведал, – объяснил чернец.
– Где он? – машинально спросил Василько, оглядываясь.
– В поповской избе сидит. А ты, господине, иди… – чернец слегка подтолкнул Василька.
Василько вошел вслед за попом в придел, но ему казалось, что это не он идет, а кто-то другой. Он же в одних мыслях. И тяжко ему, что в такой день помрачила душу недобрая весть; и не можется ему, оттого что там, за густыми лесами, за серым горизонтом, верно, затаилась его погибель; и мечется душа, хочет вырваться из удручающего тоскливого плена, ищет утешения… Но покорно следует Василько за попом.
Глава 26
Василько, ожидая, пока поп творил молитву и кропил освященной водой столы и лавки, все старался взять себя в руки и гнал прочь мрачные мысли.
Его взгляд бесцельно бродил по приделу, отмечая его чистоту, тесноту и принаряженность. Столы холстом покрыты, на столах расставлены блюда, солоницы и чаши; по стенам светцы воткнуты, и в тех светцах лучины горят.
Постепенно ощущение необычайности происходящего, предвкушение сытного и веселого пирования, отразившиеся на лицах крестьян, передались Васильку и загнали в самые потаенные душевные глубины смятение. Он будто немного поуспокоился. Когда же в придел вошла Янка, разносившая вместе с Аглаей горшки с курой, Васильку совсем полегчало. Глядя на рабу, не хотелось думать о плохом.
Женки клали куски кур в одно блюдо на двух едоков, а Васильку и попу – в опричное блюдо. Василько не спускал глаз с Янки, завидуя Пургасу и чернецу, которые были подле нее и запросто говорили с ней. Поэтому он даже немного замешкался с приглашением садиться за стол. Только уловив на лицах собравшихся нетерпение, почувствовав, как в приделе стало непривычно тихо, спохватился, сел на свое место и просил крестьян славить Христа.
Его опричный стол находился у дальней от двери стены, в торце другого, широкого и длинного, почти перегораживавшего придел на две половины стола. На середине большого стола стояла просфора, и поп объяснил Васильку, что она предназначена Богородице.
Поп сел по правую руку от Василька, но не за опричным, а за общим столом. К удивлению молодца, поп вчера поладил с Пургасом на том, чтобы брашну в придел носили Аглая и Янка.
То, что Янка будет присутствовать на братчине, так обрадовало и в то же время опечалило Василька, что он даже забыл о своем запрете присутствовать в приделе Аглае. По сердцу ему было, что Янка будет подле, но брала досада, что любоваться ею суждено не только ему.
Крестьяне рассаживались робко, с натугой и понуканием, словно не до конца уверовали, что трапеза приготовлена не только для Василька и его людей, но и для них, сирых. Большинство из них толпились у двери, вполголоса переговариваясь, переминаясь с ноги на ногу. Другие, кто посмелее и подобрее, проходили в голову большого стола и усаживались неподалеку от Василька.
Придел был нетоплен – сидели, стояли в шапках, овчинах, кожухах и сермягах. Василько, хотя надеялся на тепло громоздкого кожуха, почувствовал озноб. Но молодцу все нипочем – он только повел плечами и все искоса поглядывал на Янку.
Янка стояла у двери и что-то объясняла Аглае. На ней была зеленая телогрея с беличьей опушкой по обшлагам, надетая поверх синей сорочки; лицо туго обмотано повоем, а на голове – отороченная серым заячьим мехом шапочка.
К женкам подошел озабоченный Пургас и что-то сказал. Аглая и Янка направились к двери. Василько смотрел вслед удаляющейся Янке и чувствовал, что не хочет, чтобы она уходила, что без нее потускнеет придел, а собравшиеся в нем люди будут казаться ему невзрачными, постылыми. У двери Янка обернулась и с улыбкой посмотрела на него так, как будто догадывалась о его думах и молчаливо благодарила за них. Василько поднялся со скамьи, повинуясь охватившему его желанию следовать за ней, только в последний миг спохватился, мотнул головой, отгоняя наваждение, и снова сел на скамью.
– Твой зачин, господине! – пробасил сверху чернец, ставя на стол перед Васильком немалую мису с нарезанными ломтями хлеба и солоницу.
Василько непонимающе посмотрел на него, но тут же спохватился, напустил на себя важный вид, поднял руку, указывая жестом крестьянам, что пора определиться с местом и приступить к веселому пированию. Но, увидев вспыхнувшую в середине стола свару, замер и осуждающе усмехнулся.
Хотя крестьяне были далеки от нравов сильных и именитых, но обычаи пращуров соблюдали твердо. Они принялись из-за мест браниться: одни норовили сесть повыше, поближе к Васильку, другие считали, что первые садятся так не по праву, не по старине, занимают их место и потому наносят им великое бесчестие. Смешно было наблюдать Васильку, как смерды лаются из-за мест, но он бы несказанно удивился, если бы братчина началась без свары.
Споры зарождались вначале на ближнем от Василька конце большого стола и постепенно перемещались к его середине. Пургас резким и грубым окриком и чернец терпеливыми уговорами да добрым словом вначале гасили эти несогласия. Но затем приключился бой.
Карп нипочем не соглашался сесть ниже незнакомого молодого крестьянина; он был уверен, что тот занял его место в середине стола.
– Иди прочь с этого места! – распалился Карп, стоя за спиной сидевшего за столом и нагнувшегося над блюдом молодца.
Это был брат мужа Янки Нечай. Нечай восседал подле отца и был удручен, напуган этим внезапным наскоком. Но едва он сделал попытку уступить место, как отец, больно схватив костлявыми и жилистыми пальцами его за плечо, прохрипел: «Сиди!» и, оборотив свое сухое морщинистое лицо на Карпа, зло сверля его маленькими тусклыми глазками, сказал:
– Кто таков? Ты еще не народился, а я уже бородат был и на этой земле сидел.
– Я тебя на селе не видывал! Твоя земля к селу не тянет, и на братчину ты явился не зван! – отозвался Карп и, вконец обозлясь, ударил по спине Нечая.
Карп загодя к братчине готовился: и кожух-то жена чистила, и чернец ему новую, на меху шапку шил, и поднялся он сегодня спозаранок, и в храме стоял с почтением, промерз до косточки, и получил такой срам. Было еще Карпу обидно, что он пиво варил и Пургасу подсоблял. Если бы его место занял Дрон либо кто-нибудь из старожильцев, Карп вида бы не подал, но тут худой незнакомый крестьянишко. Многие досады переполняли Карпа, и он сунул кулак в ненавистное рыло старика.
– Ужо убивают! – завопил старик, согнувшись и схватившись за ушибленную щеку. Нечай вскочил со скамьи и ударил Карпа в лоб. Карп упал бы, если бы его не поддержал чернец. К ссорившимся подлетел Пургас и принялся ругать Нечая. Старик держался за щеку и громко скулил. Иные крестьяне посмеивались, другие смотрели на Карпа осуждающе, третьи нетерпеливо поглядывали на остывающую еду, поп хмурился, Василько ухмылялся в усы.
Чернец отвел поникшего Карпа на другую сторону стола и, попросив крестьян раздвинуться, усадил товарища за стол да, на зависть другим, принес ему опричное блюдо с курой. Карп некоторое время тер ушибленный лоб и зло косился на обидчика.
Пургас дал Нечаю звонкую затрещину, Нечай, как подрубленный, опустился на скамью, спиной к столу, и догадался оборотиться только тогда, когда отец нервно дернул его за рукав и что-то запальчиво и визгливо сказал.
Оживление, порожденное сварой, стало затихать. Пургас поспешил к Васильку с вестью, что крестьяне расселись, брашна разложена по блюдам и настал миг дать чистый путь веселому пированью.
Василько взял ломоть хлеба, обмакнул его в солоницу и подал попу – поп поднялся, взял хлеб, поклонился Васильку, крестьянам. Василько взял другой ломоть, обмакнул его в солоницу и передал Дрону – Дрон вышел из-за стола, хлебушек принял, кланялся Васильку до пола и крестьянам тоже кланялся. Василько не дремал: брал другой ломоть, солил его и отправлял крестьянину Копыте – Копыто выходил из-за стола и кланялся, кланялся…