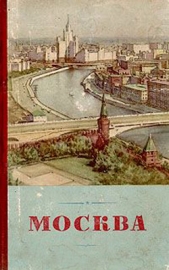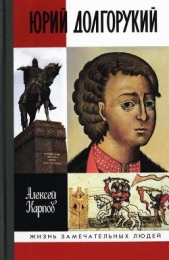Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник)

Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник) читать книгу онлайн
ДВА бестселлера одним томом. Исторические романы о первой Москве – от основания города до его гибели во время Батыева нашествия.«Москва слезам не верит» – эта поговорка рождена во тьме веков, как и легенда о том, что наша столица якобы «проклята от рождения». Был ли Юрий Долгорукий основателем Москвы – или это всего лишь миф? Почему его ненавидели все современники (в летописях о нем ни единого доброго слова)? Убивал ли он боярина Кучку и если да, то за что – чтобы прибрать к рукам перспективное селение на берегу Москвы-реки или из-за женщины? Кто героически защищал Москву в 1238 году от Батыевых полчищ? И как невеликий град стал для врагов «злым городом», умывшись не слезами, а кровью?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он заметил Василька, и на его перекошенном от злобной решимости лице произошла перемена. Он будто почувствовал, что Василько опасней и сильнее прочих нападавших, и посмотрел на молодца с мольбой и обидой. Но тут же его лицо преобразилось, сделалось гладким и плоским, похожим на обточенный речной волной камень, – чернобородый протяжно, дико закричал и замахнулся ножом на Василька. Василько бесстрастно ткнул мечом его в живот. Чернобородый ойкнул, словно нечаянно ожегся, схватился руками за рану…
Посрамление людей Воробья было полным. Четверых злодеев повязали, а поколотый Васильком и забитый крестьянами чернобородый медленно отходил. Он лежал на боку, согнувшись почти пополам, и зажимал руками рану. На его пальцах и на полу навязчиво алела кровь. Чернобородый часто икал, но постепенно голос его становился слабее.
Шум свары сошел на нет, но по приделу продолжали разноситься речи еще не успокоившихся крестьян. Василько почувствовал себя таким усталым и опустошенным, что не медля вернулся и сел на прежнее место.
Он сидел, бесцельно посматривая то на середину стола, то на лежавших повязанных полоняников, и невольно вспоминал подробности происшедшего. Вспомнил, как ожидал помощи, когда круглолицый размахивал перед ним ножом, и посетовал на Пургаса; кручинился, оттого что поднял руку на чернобородого и тем самым обесчестил себя. Посмотрел, прищурившись, на противоположную стену, у которой собралось большинство крестьян. Они стояли вокруг поколотого Ивашки и смотрели вниз. На груди убитого негромко и нудно плакала жена.
Янка тоже находилась среди скорбевших. Она склонила немного голову и задумчиво покусывала краешек нижней губы. Как не подходили ее молодость, красота, хрупкость к тому, что только что произошло в приделе. Василько особенно остро ощутил свою вину перед ней за то, что ей привелось видеть и слышать.
Чернец, накидывая на Василька кожух, рассказал, как был поколот крестьянин. Оказывается, чернобородый схватил молодую жену Ивашки и задрал ее сорочку. Крестьянин кинулся к жене на выручку, чернобородый, не говоря ни слова, полоснул его ножом по горлу.
– У Ивашки-то чада малые. Как его женка с ними управится, ума не приложу, – печалился чернец.
Василько спросил, где находится двор Ивашки, и, узнав, что убитый жил подле лесного озера, сокрушенно покачал головой. Он уже не раскаивался в том, что заколол чернобородого, и в который раз осмотрел полон. Пришлые лежали на полу, у боковой стены, посередине придела, повязанные и раздетые до исподних сорочек. Видя сейчас этих беспомощных избитых людей, трудно было представить, что совсем недавно они злобствовали, казались всесильными, похожими на слуг сатаны.
Круглолицый стонал, дергал головой и изредка жалобно и протяжно просил воды. Чернобородый уже умолк и замер. Мирослав лежал спиной к своим людям, словно желая показать, что даже в таком положении он должен быть выделяем.
– Тебя отец прислал? – спросил его Василько, когда, заколов чернобородого и возвращаясь к своему столу, наткнулся на повязанного сына всесильного Воробья.
– Нет, – отрывисто и зло произнес Мирослав и, отвернувшись, завыл не то от боли, не то от досады.
Васильку отчего-то сделалось стыдно, словно он только что управился не с вооруженным молодцем, а обидел несмышленого отрока.
– Отпусти Мирослава с миром и людей его отпусти, – услышал Василько над собой повелительный старческий голос, поднял очи и, к удивлению своему, увидел стоявшего вблизи попа Варфоломея.
– Разве я пришел незваным на братчину? Смотри, что эти душегубы над Ивашкой содеяли! – ответил Василько.
– За то душегубство их Господь накажет. Ты бы отпустил их, не брал бы греха на душу.
– Если отпущу, то только за немалый выкуп. Пусть Воробей потрясет своей мошной! – упрямился Василько.
Его постепенно стал раздражать настойчивый и дерзкий тон попа. К тому же слова Варфоломея напоминали о том, о чем думать и говорить не хотелось. Если бы Василько знал, как поступить с полоном, то он бы обругал и послал прочь настырного собеседника, но он не ведал. Поп был прав: зачем дразнить лютого и сильного зверя? Не лучше ли отпустить людей Воробья подобру-поздорову? Но настойчивость Варфоломея вызывала у Василька противление.
– Я пир учинил! Не отпустишь полон, на меня грех ляжет! – стоял на своем поп.
– Щенка Воробья и его холопов отпущу только за выкуп! – сквозь зубы процедил Василько. – Пусть посидят в подклете, померзнут. А ты, поп, мне не указ! Коли будешь перечить, выбью вон из села!
В мутно-серых очах Варфоломея заплясали злые огоньки, он скрипнул зубами и даже затрясся. Васильку показалась, что поп сейчас обрушится на него с руганью, и он сжал кулаки. Но поп вскинул очи на икону, висевшую сзади и сбоку Василька, перекрестился и заговорил:
– Прости меня, Господи! Не гневись на заблудших овец твоих! Накажи одного меня, неразумного, за то, что братчину учинил!..
– Отче, не гневайся на меня! – молвил примирительно Василько, растроганный внезапной и смиренной молитвой попа. – Отпущу я полон; ей-ей, отпущу!
Но поп будто не слышал раскаяния Василька. Он молился, часто упоминая людские неправды, и с каждым мгновением его слова и жесты произносились и делались с еще большей страстью.
Василько сидел пристыженный, очи поднять остерегался; он недоумевал и тосковал, оттого что его так умело переклюкал поп. Не плакал, не каялся, не жаловался, но все едино стало неловко. Василько в сердцах решил покинуть придел.
Глава 28
Первая ночь после Рождества выдалась тихая и ясная. В такую ночь добрый человек невольно отрешается от тяжелых мирских дум. Чувства его смягчаются, и на душе становится безмятежно – невольно возникает ощущение единения с природой, смутное осознание, что все происходящее на земле непрочно и худо, а главное – там, в глубинах вечного синего неба.
Под ногами Василька успокаивающе похрустывал снежок; на серебристой круглой луне угадывались серо-грязные отметины, делавшие ее похожей на полное добродушное лицо. Впереди и в стороне чернели постройки заднего двора: тын, мыльня, сенник… В их привычных очертаниях Васильку сейчас чудилось что-то необыкновенное и заманчивое.
Он часто задумывался, отчего зимней и ясной ночью земля и все, что создано человеком и природой, приобретали для него причудливый и притягивающий вид? Казалось, стоит только не полениться, подойти поближе, прислушаться и всмотреться, как взору откроются преизмечтанные и предивные чудеса. Хотя он понимал, что все это лжа и ничего причудливого не будет за прикрытой со всех сторон пуховым снежным одеялом мыльней, но что-то внутри него настойчиво звало пройти по узкой петлявшей в снегах тропе и, переборов прародительский страх, заглянуть за мыльню. Может, сидит там неведомый зверь и, высунувши длинный и влажный язык, дышит глубоко, судорожно и часто; может, лежит там икона чудотворная и излучает вокруг себя неземное, голубоватое и нежное сияние; а может, стоит там окованный, расписной ларец, в котором за семью цепями и печатями хранится чья-то смерть.
Со стороны переднего двора слышались зычный и гневный глас Аглаи, приглушенные голоса Пургаса и чернеца; из-за тына доносились скрип санных полозьев, лошадиный топот, хмельная перебранка, заунывная песнь – крестьяне разъезжались с братчины.
Здесь, на заднем дворе, никто и ничто не могли помешать уединению Василька, которое ему было необходимо, чтобы осмыслить случившееся.
Он уже выходил из придела, как внезапно почувствовал желание поворотиться. Обернулся – среди многих обращенных на него взглядов крестьян увидел глаза Янки. В них он уловил неприкрытый укор и сокровенный, проникающий, будто шедший от самого сердца зов. Он смутился, затем почувствовал, как трепетная волна разлилась по груди, разом заглушив заботы, печали и вызвав нестерпимое желание приблизиться к Янке, молвить ей, что она дорога ему. Если бы не было поблизости крестьян, Василько, как заговоренный, потянулся к рабе, но они были и следили за каждым его движением и жестом. Василько стрелой вылетел из придела.