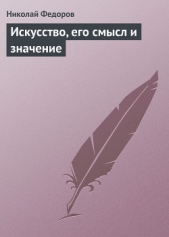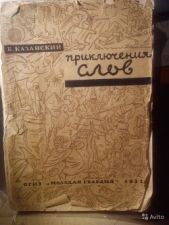О сколько нам открытий чудных..

О сколько нам открытий чудных.. читать книгу онлайн
В книге представлены некоторые доклады, зачитанные автором или предназначавшиеся для зачитывания на заседаниях Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых. Доклады посвящены сооткрытию с создателем произведений искусства их художественного смысла, т. е. синтезирующему анализу элементов этих произведений, в пределе сходящемуся к единственной идее каждого из произведений в их целом.
Рассчитана на специалистов, а также на широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И насмешка Мериме, — насмешка постфактум, насмешка уже другого Мериме, не прогрессивного романтика [5, 412] образца 1827 г., а реалиста 1835‑го (таким годом помечено в пушкинских «Песнях» его письмо), — насмешка Мериме над своей мистификацией была на руку Пушкину. «Не верьте, — как бы предварял Пушкин, — тому, что прочтете дальше».
А сам перевод песен он устроил так, что получалась там сплошная неопределенность относительно югославской реальности. Лучше всего это видно по получившейся наименее югославской вещи — «Вурдалак». <<Все, о чем говорится в стихотворении, — пишет Свенцицкая, — существования вурдалаков не отменяет, хотя и не утверждает>> [7, 62]. Действительно, перечитайте:
Если б стихотворение было без названия, это было б насмешкой автора над суеверием. И она таки есть, как одно из противочувствий (по Выготскому). Но вот когда сам автор назвал его все же «Вурдалак» (другое противочувствие) — дело меняется. Тут не насмешка и не серьезность, а неопределенность. Тем более что она исходит, получается, как бы от Пушкина, описывающего свое время и свою страну.
У Мериме не так. У него песня названа «Ивко» (явно югославское имя), то бишь, как метко заметил один психолог: «Привидения появляются там, где в них верят». Появляются или ожидаются, — можно добавить. И у Мериме есть специальная глава от имени автора, «О вампиризме», в которой он без комментариев цитирует трактат, протокольным языком описывающий факты вампиризма в конкретной деревне в конкретное время с конкретными свидетелями, причем весьма уважаемыми (вроде как сейчас в исследованиях уфологов, имеющих даже ученые степени). Мало того, автор рассказывает, что, будучи в 1816 году в деревне Варбоска, он оказался свидетелем того, как от вампира умерла дочь Вука Польоновича, у которого он остановился, и как с вампиром (того не тронули в могиле черви, и в нем была жидкая кровь) расправились жители деревни. И лишь после этой главы у Мериме идут песни о вампиризме.
Можно, конечно, вчитавшись, заметить позицию автора, мол, мало ли что можно в трактате намолоть; а что кровь жидкая — так не указал же он, сколько покойник в могиле пролежал; а что черви не тронули — так об этом крикнула женщина, и, может, черви и не должны так уж скоро трогать труп; а что след укуса на шее был у девушки — так, может, то действительно был укус, но насекомого, отчего девушке и приснилось нападение вурдалака (описан же случай длинного сновидения, кончающегося гильотнированием, что приснилось человеку за долю секунды после падения ему на шею карниза); а что девушка таки умерла — так чего не бывает от самовнушения. Но это все уже слишком тонко, и впечатления неопределенности Мериме не оставляет.
У Мериме только насмешка. Она исходит якобы от югославского певца, гузлара. Это одно из противочувствий, имеющее в виду идеалом запредельную храбрость. Но та не может быть идеалом француза эпохи Реставрации, когда требовалось только изворотливость в предпринимательской гонке, гонке, с которой недавней революцией были сняты многие, но не все, оковы. Тому (а это неизвестный издатель «Гузлы») такая храбрость кажется дикой (другое противочувствие), которое он так и поименовал в предисловии: «творения полудикого народа, и потому я был далек от мысли опубликовать их» [6, 27]. Зато от столкновения этих противочувствий в 1827 г. у Мериме и всех тех, кто через 3 года совершил новую революцию, устранившую с предпринимательской гонки уж совсем все оковы, у всех них возникал катарсис прилива бодрости и уверенности в борьбе. С кем борьба у романтика Мериме? — С эпигонами классицизма, воспевающими возврат из безобразия рыночности всего и вся к порядку и нравственности феодализма и религиозности. Это как писал тогда Гюго: <<В настоящее время существует литературный старый режим, так же как политический старый режим>> [4, 127]. И призывал: <<Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам>> [4, 105], имея в виду классицизм. «Гузла» и ударяла. Жутью и дикостью иррациональности. Это как в 1991 году Ельцину годились любые наркоманы и рокеры для увеличения толпы, противостоящей танкам гэкачепистов.
Но в 1834‑м, после жалкой победы во Франции революции 1830 года, да еще глядя из России — жуть «Гузлы» воспринималась не по–боевому, а в лоб — как жуть, и не могла оставить равнодушным закручинившегося к этому времени и засомневавшегося Пушкина. Он однако был бы не художником, если б свой цикл по мотивам Мериме сделал предназначенным для восприятия в лоб. Вот в «Вурдалаке» и организовал через противочувствия — катарсис: неопределенность вампиризма.
Вот другое стихотворение о вурдалаке — «Марко Якубович». Как он здесь организовал противочувствие?
Главные действующие лица здесь совсем не Марко, а раненый басурманами пришелец, ставший после смерти вурдалаком, и справившийся с вурдалаком калуер. И такие невероятности здесь происходят, что даже с точки зрения человека суеверного они выглядят сомнительными. Судите сами.
Как мог пришелец стать после смерти вурдалаком? — Об этом у Пушкина сказано в предшествующем «Гайдуке Хризиче» (Пушкин не зря — через примечание о кровососании — связал эти две песни). Венецианские полицейские солдаты выследили пещеру–жилище семьи бандита Хризича и окружили ее. Жена Хризича умерла от жажды. На очереди был старший сын. Младший сын предложил ему свою кровь — напиться. А отмщением после их здесь неминуемой смерти от жажды и голода должно было, как известно, стать вурдалачество по отношению к врагам.
Можно понимать, что раненый басурманами гость Якубовича стал после смерти вампиром по такой же причине. Не зря ж он, появившись, просил в первую очередь пить.
Но почему ж он после смерти пришел сосать кровь сына Марка, а не тех басурман, от места стычки с которыми он, смертельно раненый, за три дня дотащился пешком — так это было близко? Почему такая неблагодарность? — Событие с сомнительным статусом реальности, — как выражается Свенцицкая. Какой реальности? — Реальности суеверного югослава.
Далее. Ну убежал вурдалак от расправы. Ну стал все же опять приходить в дом Якубовича. Но почему — не в своем облике? — Опять — событие с сомнительным статусом реальности. Опять — реальности суевера.
Да было ли все пропетое гузларом на самом деле?! Не приврал ли ему кое–что Марко?!
Это — катарсис. И возникает он от сшибки принимаемых за правду строф гузлара — с названием песни: «Марко Якубович». Назвал бы ее гузлар «Вурдалак» — было бы ясно, что он своим авторитетом гарантирует, что все так и было. А раз назвал «Марко Якубович» — именем персонажа, почти не действующего по сюжету… а лишь рассказавшего, видно, этот сюжет… — Сомнительно его свидетельство.
То есть опять мы имеем дело с выражаемой Пушкиным неопределенностью.
Причем выражаемой вопреки Мериме (здесь я говорю не о духе Мериме, а о, так сказать, букве; дух, как я уже отмечал, у Пушкина в принципе другой, не прогрессивно–романтический). Так вот, по Мериме, с точки зрения югослава, — не было ничего сомнительного в том, что пришелец стал вампиром: Якубович же не подумал, что нельзя православного хоронить на католическом кладбище (Якубович — католик) — покойник не сможет успокоиться в земле, станет вампиром и будет мстить тому, кто там его похоронил. Что и случилось. А Пушкин этот факт опустил. Для чего? — Для выражения неопределенности в конечном итоге.