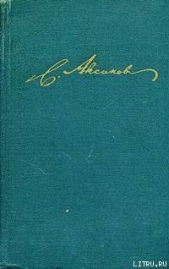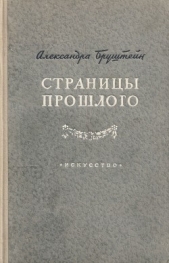Театральные портреты.

Театральные портреты. читать книгу онлайн
Вступительная статья и примечания М. О. Янковского."Театральные портреты" великих актеров 19 - начала 20 вв. Среди них П. А. Мочалов, А. И. Южин, М. Н. Ермолова, К. А. Варламов, М. Г. Савина, В.Ф. Коммисаржевская, В. П. Далматов, М. В. Дальский, Е. Н. Горева, Ф. П. Горев, Ю. М. Юрьев, В. И. Качалов, П. Н. Орленев, Н.Ф. Монахов, А. Д. Вяльцева, Томмазо Сальвини, Элеонора Дузе, Сара Бернар, Режан, Анна Жюдик, "Два критика (А. И. Урусов и А. Н. Баженов)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Москве, где общий тон исполнения вообще выше, чем в Петербурге, благодаря героическому репертуару, преобладавшему на сцене Малого театра, Горев не расходился с остальным ансамблем в такой мере. Но Петербург — город сероватый. В Петербурге не любят декламации и не знают пафоса, и здесь Горев, со своим приподнятым тоном, со своей запоздавшей страстью, часто совершенно противоречил окружающему. С Горевым случалось, что чем ярче он играл, тем он играл невернее. Хотелось ему крикнуть: «Да удержи ты свой {199} талант! Легче! Легче!» Но он уже не мог удержаться; он как будто вспоминал свои прежние годы, и ему все казалось, что он — воздушный, пылкий, грациозный Дидье[177] из «Марион Делорм»…
Сколько лет было Гореву? В моей памяти, сколько бы ему ни было лет, он остался молодым человеком, и иным я с трудом могу себе его представить. Сколько ему было лет в точности, едва ли кто-либо знал. Этот вопрос ему при ком-то задал В. А. Тихонов[178], написавший статью по поводу приезда Горева в Петербург на гастроли. «Для тебя, — сказал ему Федор Петрович, — мне лет сколько хочешь, а для публики, ну, скажем, пятьдесят или сорок восемь». Горев делал это не из кокетства. В нем говорил бессознательный инстинкт чистокровного любовника. До последних дней, до последних ролей в нем сохранилось это любовническое tremolo. С ним умер последний настоящий любовник — тот полулегендарный для нас Арман Дюваль, о котором мечтал старый Дюма и без которого никак не понять драмы Маргариты Готье[179]. Есть что-то в Армане стихийное, от природы певучее, как очарование очковой змеи, что-то бурное, страстное, безраздельное, увлекательное.
Все это было в Гореве: бурно-пламенный темперамент и эта однообразная по существу, но упоительная, как щелканье соловья, любовная речь. И когда он играл характерные роли, стариков, фатов, героев, в его речь, в роль и образ вторгались черты Дюваля и вдруг загорались его полупотухшие глаза, и звенел голос, и срывалась степенная речь, и бурным потоком лились огненные слова. Он никак не мог уложить в рамки характера пламенное естество первого любовника. Припоминаю, например, его «Консула Берника»[180] или даже Кречинского. Он был слишком страстен, слишком искренен для Кречинского. Двойная игра — умом, {200} контролирующим сердце, — была для него всегда задачей необыкновенно трудной.
Он переживал, что он играл, и когда переживание его совпадало с материалом роли, это были создания замечательные, это был гипноз, которым, как железным кольцом, он охватывал публику. Таков, положим, его Соковнин в «Горькой судьбине»[181]. Он гордился своими паузами («Порыв» Ракшанина), которые иногда длились две‑три минуты, совершенно невероятный промежуток времени для быстрого сценического действия. Но у него они выходили, потому что он их наполнял не фокусами и не искусственным растягиванием ничего не значащих, с художественной точки зрения, подробностей, а живым, сущим, настоящим переживанием…
В последнем любовнике много было непосредственного, прямого, я сказал бы — простодушного для сложности современных драм и сложности современной театральной интриги. У Горева был талант — и очень большой, — но не было дара жизни, того «savoir vivre»[182], который на сцене нужнее, чем где бы то ни было. Ну, что он, в самом деле, играл, приезжая на гастроли? Соковнина — роль эпизодическую, рядом с Ананием[183]. Шварце[184] — роль вторую, рядом с Магдой. Второстепенную роль в «Якобитах»[185]; большую, правда, роль в неяркой комедии «В родственных объятиях»[186] и т. п. Иногда Кречинского, в котором сбивался на Нелькина[187], — «правда, правда, где твоя сила?», — иногда «Старого барина», где величавый ритм угасающего аристократа то и дело нарушался стремительностью его, алкавшего бури и жизни, темперамента.
Он неважно рассчитывал иногда свои силы, но еще хуже, как большой, доверчивый, простодушный ребенок, {201} рассчитывал силу понимания толпы. Он не презирал ее, и в этом была его слабость. Он не издевался над ней, а горячо вместе с ней молился и плакал, а потому, нередко увлекая ее до самозабвения, никак не мог оседлать ее. Он брал ее минутами великолепного вдохновения, но не входил в ее толстую и, в сущности, презренную шкуру. И, отдавшись ему в порыве, толпа скоро освобождалась от его гипноза и забывала о нем, потому что он не задевал ее интереса, ее тупой наклонности к поучению, ее вечного смешения искусства с жизнью. Горев был прост. Он был Симплиций. Он тянулся к лунному лучу, к такой чудеснейшей, как откровение мира, ирреальности. А толпе всегда нужен грубый идол, который можно щупать. Ей нужна мера, и нужен вес, и нужна протяженность, и нужно многое, хотя бы оно было ничтожно, а не немногое, хотя бы оно было гениально.
Удивительно ли, что Горев слыл за «несчастного гастролера»? Весь театральный мир знал, что Горев «несчастный гастролер». Никто не говорил: «плохой актер», «не талантливый», «неинтересный». Никто не скупился на похвалы этому, действительно, редкому дарованию. А говорили только: «несчастный». И сам про себя он говорил: «Я ведь несчастный, сборов не делаю». Говорили все, говорил и он, — и не вдумываясь в трагедию, скрывавшуюся в «несчастии» Горева, — трагедию рыночного спроса, трагедию веса в искусстве, которое как молния, как проблески истины, не имеет ни веса, ни протяжения, а просто прекрасно, восхитительно, неизмеримо, и не может быть остановлено, потому что она миг, озарение.
И в жизни Горев был так же простодушен. «Несчастный гастролер» делил с товарищами рубль, бывший в кассе, и всегда конфузился, когда ему от плохого {202} сбора давали гастролерский гонорар. Он и этого не понимал, что брать большой куш — значит внушать о себе высокое мнение; что апломб — три четверти успеха; что скромность — вернейшая дорога к неизвестности. После Горева приезжал другой гастролер — сухой, негибкий, пустой актер. Но приезжал он в первом классе, глядел соколом, высматривающим добычу, кланялся снисходительно антрепренеру, брезгливо морщился при представлении товарищей — и сразу у всех зарождалась надежда. Приехал счастливец. Этот не выдаст. Этот прокормит. И в желудке у изголодавшихся начинала разливаться приятная теплота.
И сам он был прост и просты были его чувства. Для него театральная сцена представляла арену, где сталкивались любовь и ненависть, добро и зло, где белое было всегда белым, а черное черным, где любовник имел «всегда восторженную речь и кудри черные до плеч»…
Он не мог быть тепловатым и прозрачным, как жидкий чай. Когда Горев играл в новейших пьесах, мне представлялось, что его заперли в какую-то клетку и связали движения тонкими ремнями. И он томится. Но вот, подождите, сейчас дадут красный свет, и из старых, степенных одежд вынырнет блестящий юноша, хриплые ноты исчезнут, голос зазвучит чистым металлом, раскроются припухшие веки и распрямятся согнутые и сведенные пальцы, — и, порвав связывающие путы, вдруг предстанет Арман Дюваль и дрожащим от глубокого чувства голосом воскликнет: «О, Маргарита, я люблю вас!» И свершится чудо: кокотка станет любить нежнейшим и благороднейшим сердцем, и расцветится иллюзия любви, и воскреснет поэзия вздохов, признаний, трубадуров, и сладко подует зефиром с равнин Прованса.
{203} Умер любовник — тот, который умел любить любовь. Народился неврастеник. Увы, c’est fort, comme la mort[188]. От этого не уйдешь. И когда я припоминаю фигуру Горева, то вижу пред собой картину из «Тружеников моря»[189] — финал романа: плоская возвышенность, на которой сидит благородный герой, не сводящий глаз с удаляющегося парохода, а со всех сторон, верно и постепенно, поднимается вода, океан растет, простирая свои холодные объятия, и точка исчезает в пучине бесконечности, без крика, без плеска… Даже птица не появляется на этом месте. Одна спокойная стихия. Тишина. Безразличие.
{204} Ю. М. Юрьев[190]
Помню очень отчетливо дебют Ю. М. Юрьева на Александринской сцене. Не потому помню, что этот дебют оставил такое сильное впечатление, — за сорок лет моего рецензентства столько промелькнуло предо мною лиц, что перегруженный мозг едва ли мог бы сохранить впечатление, — а потому, что к дебюту я был подготовлен приятелем своим, покойным Н. Ф. Арбениным, актером, автором, переводчиком и большим хлопотуном. Он надоел мне, надо правду сказать, своими предварениями о дебюте молодого актера Юрьева «из Москвы». Арбенин был не только москвич, но еще воспитанник {205} Ермоловой. Для него Москва была, вообще, «третьим Римом», а Московский Малый театр — седалищем мирового разума. (Это нужно понять нынешним, да еще ленинградским.) Критик «Московских ведомостей» С. В. Флеров[191] писал Театр с большой буквы, что означало Московский Малый театр, когда же писал с маленькой буквы, то это означало художественное учреждение — родовое понятие. Молодой Юрьев был не только москвичом, не только питомцем школы и сцены «Театра», он был еще племянником С. А. Юрьева[192], апостола Малого театра. С. А. Юрьев представлял собой тип старого энтузиаста, запоздавшего рождением, так как всей своей душевной и умственной формацией принадлежал к людям сороковых годов. Он способен был три дня поститься и говорить о Кальдероне и Лопе де Вега, доказывая, что трагедия «Фуэте Овехуна», «Овечий источник» то же, заключает в себе этический элемент индивидуальный, а не социальный или что-нибудь в этом роде. При этом он от восторга плакал, а все кругом рыдали. А кругом была «вся Москва», то есть труппа Малого театра, профессора университета Стороженко[193] да Веселовский[194], а на кончиках стульев, в тени, у порога комнаты, сидели почтительные миллионеры из купцов вперемежку с молодыми приват-доцентами. И умер он по пути в театр, на «Фауста» с Поссартом[195].



![Силь [= Сил]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)