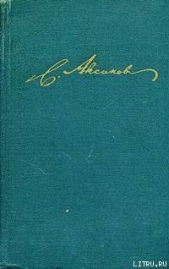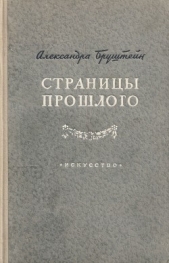Театральные портреты.

Театральные портреты. читать книгу онлайн
Вступительная статья и примечания М. О. Янковского."Театральные портреты" великих актеров 19 - начала 20 вв. Среди них П. А. Мочалов, А. И. Южин, М. Н. Ермолова, К. А. Варламов, М. Г. Савина, В.Ф. Коммисаржевская, В. П. Далматов, М. В. Дальский, Е. Н. Горева, Ф. П. Горев, Ю. М. Юрьев, В. И. Качалов, П. Н. Орленев, Н.Ф. Монахов, А. Д. Вяльцева, Томмазо Сальвини, Элеонора Дузе, Сара Бернар, Режан, Анна Жюдик, "Два критика (А. И. Урусов и А. Н. Баженов)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дальского я знал очень давно — во всяком случае, более четверти века. Помню его красивым молодым человеком с горящими глазами и пухлыми капризными губами. При всей бессмысленной изломанности характера, при всем великом беспутстве, в Дальском было и что-то детское: в губах! Как это ни неожиданно для многих, Дальский был способен к хорошим порывам, и душа его была далеко не мелкая.
Он себя именовал «анархистом», и по праву. Известная моральная неустойчивость, конечно, придавала его «анархизму» довольно своеобразный характер, но все же надо признать, что, действительно, его натура, его душа, его талант — были насквозь анархичны и гордо индивидуальны.
В труппе Александринского театра он не уживался. Его считали надменным, нахальным, дерзким. Да, все это было. Но я его знавал и видел нередко очень простым, очень мягким и очень податливым. К нему надо было уметь подойти. К нему, однако, никто за всю его жизнь не сумел подойти и раздуть огромные возможности этой далеко не ординарной личности.
Он таил в себе громадные силы, и не следует судить о Дальском по последним годам, когда загастролировавшийся, опустившийся, «окречинившийся», так сказать, он громыхал своим трагическим баритоном, выставляя на вид плохую методу игры и малые остатки великого вдохновения. Среди русских драматических актеров я не знал ни одного с таким мощным драматическим темпераментом. Был еще Горев — и то в своей {183} молодости, — но Горев был более лиричен — «любовник», а не «герой». Дальский же был чистокровный драматический герой.
В одной из своих рецензий я определил Дальского, как «жестокий талант», взяв этот эпитет у Михайловского из статьи его о Достоевском. Дальскому это выражение очень понравилось, и он меня особо за это определение благодарил. Я хотел сказать этим эпитетом, что Дальскому очень удаются на сцене характеры не столько мучеников, — ибо мученики пассивны, — сколько мучителей, а главное, беспощадных и властных людей. Но Дальскому это нравилось с другой стороны. Он склонен, кажется, был толковать «жестокость» в том смысле, в каком она понимается старинными куплетами: «Что на свете прежестоко? Прежестока есть любовь!» Ему нравилось, что он внушал, так сказать, «трепет». В нем жила душа какого-нибудь деда или прадеда, бретера и задиры, александрийского гусара и кавалерийского ремонтера, грозы ярмарочных понтеров и сентиментальных губернских дам. И на сцене Дальский был очень хорош, когда бывал грозен. Но грозность его, однако, была не сухая, а пламенная, и «жестокость» тоже была не злобная, а обжигающая.
Он был превосходен в Парфене Рогожине[153], в Дмитрии Самозванце[154], Незнамове[155], местами — в Отелло. Он мне нравился как Чацкий — не потому, что это был психологически верный Чацкий (если Чацкий вообще может быть психологически верен), — но потому, что протест бунтующего духа, дерзкий вызов обществу, надменное превосходство личности над всяким хоровым началом — это и был сам Мамонт Дальский, персонально. Конечно, было странно, что при таком Чацком дышит и пользуется благосклонностью Софьи какой-то Молчалин, которого он может пальцем придавить. Но от комедии {184} Грибоедова следует брать то, что в ней есть, а не выдумывать психологическое правдоподобие интриги, которого нет. Если Чацкий — бунт, то Дальский был превосходный Чацкий.
Такой же бунтующий, неукротимый, только себя обоготворяющий, анархический дух был и в его «Уриэле Акосте»[156]. Хуже обстояло с такими ролями, как Дон Карлос, Фердинанд и вообще шиллеровский цикл. В Дальском не было ни сентиментальности, ни утонченной внутренней культуры, ни гармонии сердца и ума… Но у него безумной страстью горели глаза и рот кривился то детской улыбкой, то грозным гневом и весь он трепетал волной жизни.
Таким он был, но таким Дальский давно перестал быть. Буйство увело его из театров, где он должен был себя самоограничивать, в театры, где он гастролировал и мог сказать о себе толпе маленьких актеров и разного театрального люда: «Я — червь, я — бог, я — царь, я — раб». Начались потехи с театральными портными и парикмахерами, этими вечными жертвами актерской неуравновешенности. Школы у Дальского вообще не было. Не было ни выработанной грации, ни установленного стиля декламации, ни облагороженных выучкой манер. Было свое, богом данное, полыхавшее в молодости талантом и обаянием мужской красоты.
С гастролерством же пришли и полнота брюшка, и развязная подчеркнутость, и гастролерское нажимание. Прошло с десяток лет, и, когда я увидал Дальского в Малом театре А. С. Суворина, где он играл несколько месяцев на правах полугастролера, — это было настолько не то, настолько жирно, грубовато и, в сущности, крикливо, что мне стало безумно жаль воспоминаний о старом, бывшем Дальском, который давал там много на сцене и порой бывал так мил в товарищеском кружке.
{185} Вообще я не знаю ни одного гастролера и ни одной гастролерши, которые бы, в большей или меньшей степени, не утрачивали значительной части своих достоинств по мере своего гастролерского успеха. Даже гениальная Дузе с каждым приездом портилась — не потому, что слабели ее выразительные способности, а потому, что вся практика гастролерства есть «театр для себя», во имя свое, во славу свою. Театр, поскольку наш театр является продуктом сложного сотрудничества и исполнения авторских заданий, есть учреждение общественное, и потому актер должен вполне соответствовать аристотелевскому определению человека, как «zoon politikon», животного общественного. И фимиам успеха и лести, и необузданная реклама, являющаяся экономическим базисом гастрольной системы, и внимание легковерной и малоразборчивой публики, которая, при гастролях, и не желает ничего и никого смотреть, кроме гастролерской игры, — все это, даже при добром желании и при хорошем вкусе, неумеренно выпячивает игру гастролера. Он должен стараться, должен быть на «высоте» положения, должен разнообразить игру не только для публики, но и для самого себя. Получается нечто аналогичное почерку каллиграфов-переписчиков: они пишут прекрасным почерком, но никогда — почерком благородного вкуса, потому что уснащают буквы завитушками, хвостиками, всяческой «эстетикой», простые же буквы им опостылели. Так, на гастролях окончательно испортился даровитый актер Орленев; так, огрубел и выпятился Дальский, у которого личное начало и вообще-то било через край, сообщая всей его жизни такой беспорядочный, необузданный, беспутный характер.
Конечно, анархический индивидуализм — величайшая и высочайшая форма артистического «я». Ибо подлинно, «я — единственный», как пишет Макс Штирнер[157]. Но эта {186} единственность, надмирность — она ведь дает не только права, она обязывает. Анархическая индивидуальность обязывает в себе самом совместить все ограничения и законы общества. Законы для меня, «единственного», должны быть изданы мной. В этом мой анархизм, а не в том, что мне, единственному, наплевать на все множественное. Я, единственный, не признаю суда людей, но сам для себя я — высший суд, а вовсе не бессудная пустота. Отсюда ясно, как важно именно для таких натур строго следить за собой и не давать себе спуску. Но Дальский, можно сказать, катил на тройке добрых серых лошадей по дороге анархизма и только то и делал, что гикал и свистел. Начались какие-то «операции» в Маньчжурии, какие-то нефтеносные промыслы, вообще какая-то рокамболевщина, в которую — нужно было знать Дальского — он сам искренне верил. Он продолжал трепетать жизнью и неугомонным своим сердцем. Но это уже было вне театра, для которого он погибал… Когда Дальского несколько лет тому назад обвинили в газетах, что он участвовал в налетах анархистов и чуть ли не был атаманом-удальцом, он напечатал письмо в газетах, в котором, конечно, опровергал выставленное обвинение, но признал, что разделяет «чистое учение анархистов». Но «чистое учение», как и вообще все «чистое», то есть безгрешное, «бестелесное», не было его «жанром». И как актер, и как натура, и как темперамент, Дальский не заключал в себе ничего «чистого», а был черен, как мир, как земля, как плоть, и в этом была его индивидуальность и, если хотите, в этом состояла его красота. Бешеный в театре, в карточной игре, в кутежах, в фантастической рокамболевщине… Когда он играл Белугина[158] — доброго и кроткого Андрюшу, я неохотно верил ему, особенно после Сазонова[159], этого идеального Белугина. Но когда он играл Кастулла («Закат»)[160] — {187} дельца с бешеной волей и бешеными деньгами, он был великолепен. Тут я вспоминал эпизоды из его жизни: как сегодня он занимал 25 рублей, а назавтра переезжал в Европейскую гостиницу в апартаменты из четырех-пяти комнат с ливрейными лакеями и двумя секретарями, или его легендарные кутежи с цыганами, француженками, моторами, тонями и бессонными ночами, или что-нибудь в этом роде… Нет, что ему было делать в «чистом»! Им владела земля всецело… Конечно, он был анархист. Если бы учения анархистов не существовало, он бы его выдумал. Он и на сцене был анархист. И подобно тому как земной, а не идеалистический анархизм вырождается в уголовщину, так в театре анархизм приводит к грубой антихудожественности, как только отлетают животворящий огонь воодушевления и беззаботная песня молодости.



![Силь [= Сил]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)