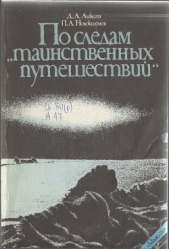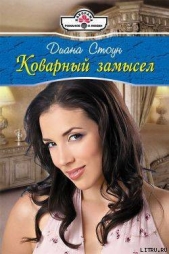Путешествия по следам родни (СИ)

Путешествия по следам родни (СИ) читать книгу онлайн
Книга очерков "ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СЛЕДАМ РОДНИ" была закончена в 1998 году. Это 20 очерков путешествий по Северо-Западу и Северу Европейской части России. Рассматриваются отношения "человек - род". Это книга "В поисках утраченного места", если определить ее суть, обратившись к знаменитой прустовской эпопее.Ощутимы реалии тех лет, много "черного юмора" и экзистенциальных положений. Некоторые очерки опубликованы в интернет-изданиях
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На мое счастье, немного поодаль под елями стоял бревенчатый дом – контора лесопункта, как подсказал нюх. Отсюда явствовало, что у заповедника денег было много, а у лесопункта – мизер, но меня привлекло, что дверь в коридор не была заперта и во внутреннем помещении, с несколькими окошками касс, побеленной печкой, вмонтированной в стену заподлицо, было теплее, и обнаружились даже стол и стул. Я скинул рюкзак.
(Боже правый, если бы кто знал, какая это грусть – владеть словом после сотен и сотен хороших писателей умерших, среди тысяч и тысяч плохих, живущих! Сколько упрямства и безнадежности в этом занятии!)
Я дремал там на стуле уже часа полтора, как вдруг дверь за спиной приоткрылась, как открывают ее боязливые люди, дабы убедиться, что угроза миновала, и в коридор выглянул парень лет двадцати.
- А я думаю, кто тут шебуршит, - сказал он, выставляя на порог ногу в домашних тапочках.
Когда я разъяснил положение и мы познакомились, Валентин впустил меня в свое жилище. Небольшая комната была обита деревянными крашеными панелями, вместо кровати стояла кушетка, укрытая одеялами и меховым пледом, над ней, в углу, вроде иконостаса, висели цветные фотографии рок-групп и вокалистов; печь не топилась; окон, длинное, как у веранды, выходило на куст жасмина и старую лиственницу. Было видно, что Валентин читал: на кушетке валялась книга в мягкой обложке. Он работал здесь егерем-обходчиком, а когда вызнал мои планы, насупился и заявил, что платят мало, работы много, с шести утра до поздней ночи, просеки заросли, лыжи дрянные, а мотосаней и вовсе нет исправных; я ответил, что хлеб у него отбивать не стремлюсь, в жилье не стесню, утром переговорю с Литкенсом и, скорее всего, отбуду. После этих заверений он заметно успокоился и разговорился. Не знаю, кто как, а я интересоваться живо и искренне другими людьми не умею: с трудом, через силу. И впрямь хотелось бы – ведь я люблю лес и зверей, - но если вакансий нет, добровольцем я протяну недолго: ведь надо же что-то и кушать.
- Хотите, согреем чай?
Валентин был само радушие. От чая я не отказался. Располагаться спать уже не имело смысла, а сам хозяин сказал, что не спит с тех пор, как я завозился под его дверью.
Неуместность – это состояние, когда всюду, куда бы ты ни обратился, ты чужой. Отлучая от любимого дела, мне предлагали подмену. Да, охотники, звероловы, лесники – настоящие мужчины. Да, их образ жизни здоров, они нравственны. Да, я готов у них научиться норме и природосоответствию (смотрите первые страницы этой книги); да, после восемнадцати лет обучения и последующих десяти – зуботычин от коллег, есть смысл уйти в народ, опроститься. Да, надо доверять лазам и ушам, а не аудио-видео-ряду. Да, к черту авторучку – возьмем зубра за рога. И все-таки я не мог избавиться от опасения, что удалить меня нужно кому-то, кто метит на мое место, в ком проснулось честолюбие, для кого я, литератор-неудачник, стал помехой на блистательном восхождении к вершинам. И это как-то связано с уценкой моей стоимости. Наказан и сослан, преступил и наказан, согрешил и покаялся. Двадцать лет исправительных работ – и близко не пускать к печатному слову: таков вердикт. Такая возникла диспозиция в моей горемычной жизни, такой выпал жребий от религиозного народа, цивилизующего северных дикарей вот уже две тысячи лет.
Странно, что я этот жребий с готовностью принял, в то время как оценщица, надувая брыластые щеки и возведя горе миндалевидные глаза, вещала студентам о литературном мастерстве, издавала свои компиляции и с упорством черепахи, лезущей на пальму, намеревалась обглодать мою верхушку. С кем споришь, дурак? Они иссекали скрижали каменные и в скинии завета молились, когда еще, как зверь, ты рыл землянки с лопарями, укрывался еловой корой с корелами. Я это, кстати, понимал и думал о своей любовнице с нежностью, как о высшем существе. Почему случилась столь глубокая девальвация достоинства, я уже не мог бы определенно сказать. Но нити заговора тянулись от моей родни.
Денег не было совсем, Валентин, судя по обстановке, тоже не роскошествовал. Утром мы опять попили чаю с сахарным песком, намазывая маргарином черствую булку. Потом вышли покурить на крыльцо, над которым в ряд нависали сосульки с шиферной крыши. Бедный, голодный, я прокручивал в мыслях, сколько мне заплатят, например, в журнале «Охота и охотничье хозяйство», если я о заповеднике все же напишу. Сорок долларов от силы. Но, скорее всего, материал удастся пристроить в еще более специализированный журнал, который не заплатит вовсе. Скверно. Но перед Литкенсом следует играть роль корреспондента-волонтера и исподволь разузнавать о вакансии.
Несмотря на субботу, Литкенс явился. У него был просторный и очень светлый, но не компьютеризованный кабинет, столы сдвинуты буквой «т», за спиной масштабная карта заповедника. Седоватый и очень сухопарый, Литкенс выглядел изможденным, как объездчик лошадей или углежог, а зеленоватый полувоенный френч (гимнастерка с погонами и галифе, вероятно, местная униформа) придавали его облику странную архаичность: так выглядел бы прапорщик, к тому же разжалованный, с русско-германского фронта. Потом, анализируя впечатления, я неизменно возвращался к одному: это дед по матери, год рождения 1895, вернулся отравленный газами, устроился служить по лесному ведомству, и вот я нанимаюсь к нему. Хотя от деда в Литкенсе был только френч лесничего, а все остальное уловимо свидетельствовало, что передо мной выходец из Прибалтики (манера разговора, суховатая, вежливая и немного как бы беспечная, знак муштры и выправки от пруссачества и немецких баронов), однако впечатление было неотвязное и потом возвращалось. Я отрекомендовался, раскрыл блокнот и, преодолевая тяжелое отвращение от собственных журналистских ухваток, как незрелый пьяница, который поутру храбро пьет водку, от которой вчера вечером так страдал, стар расспрашивать. Страницы заполнялись цифрами, но я чувствовал, что материал не вытанцовывается: водка стояла колом в горле. Это стало понятно сразу, так что в разговоре я просил у Литкенса позволения пожить несколько дней для воссоздания полноты картины. Нет, работы для меня здесь нет, ставки эколога, ботаника, энтомолога заняты, а зоотехником я не гожусь: вон у меня какой бледный вид. А пожить – отчего же, пожить можно, он предоставит все необходимые материалы по заповеднику, брошюры, проспекты, планы, научные работы сотрудников, если понадобится; только оплатить, конечно, мою самостийную поездку они не смогут. Нет денег, денег нет, министерство совсем их не финансирует. Ночевать я могу у того самого егеря, который меня приютил. Внутренне я разозлился, когда Литкенс, видимо из робких интонаций голоса и голодного вида, свел разговор к деньгам, как отворачиваются от попрошайки, но делать было нечего: именно таким, нищим, веселым, безработным бродягой я в те дни был; его реакция была адекватной. В моем кармане не было ни гроша, черствая булка Валентина была из тех, которые откладывают на черный день: этот младой энтузиаст тоже явно не был баловнем у сквалыги директора. Сообразив через полчаса, что его личность печатно восхвалять я не стану, Литкенс к концу разговора погрустнел и состарился на глазах: я был нахлебником, он кормильцем.
- Вообще-то пишущие люди нам нужны, некому популяризовать деятельность. А то нас уже и в Пущине не печатают. Не возьметесь ли? Мы бы стали вам приплачивать, а вы бы присылали нам уже опубликованное? Я знаком с одним редактором, составлю вам протекцию. Соглашайтесь!
Уверенный, что на обещанные деньги не проживу и, более того, что материал, который сейчас собираю, никогда не опубликую, я тем не менее поддержал идею платного популяризатора. Стало грустно, что этот пепельный сухарь в галифе, который сейчас сядет за руль «уазика» и отправится в питомник, подталкивает к бумажной возне, хотя еще утром, когда заговаривал с Валентином о том, чтобы пройти его маршрутом, то же недоверие и отвращение испытывал к физическим упражнениям на воздухе. Я только чувствовал свою неуместность и что все люди принимают меня за другого: Литкенс с радостью за журналиста, Валентин с радостью за зверолова, алкаши по вокзалам с радостью за алкоголика, Кудрявцева за бывшего мужа, Желтухин за исповедника и жизнеописателя, ремонтники – за слесаря, машинисты тепловоза – за Ленина, тайно возвращающегося из эмиграции, а я не был никем из них. Я был без места. У меня был ключ. А замка не находилось. А все они, сорок человек моей прямой родни и миллионы других сограждан, каждый вечер, а иногда и утром вставляли свой ключ в свой же замок на двуспальной кровати. Они были укомплектованы, а я вроде Агасфера, хотя, помянуть того же Христа, скопцом от чрева матери не был. И в этой нелепой поездке не вычленялось даже намерения, а только, помянуть опять же другого поэта, но тоже еврея, «открылись такие ножницы меж временем и пространством», точнее – меж спросом и предложением, что приходилось шарахаться от того и другого. По сути, пора бы понять, что я опять в Майклтауне, честный последователь рабочей династии лесовщика, но как человек с образованием, на лесоповал стремлюсь попасть не трактористом и вальщиком, а десятником. И вместо головокружительной известности, добрый Литкенс честно предлагает воспеть высоки слогом его визиры и пасеки. А ведь уже тогда следовало вспомнить, что делал Герцен в Вятке, Короленко в Вятке же, Солженицын в Смоленске, Мандельштам в Воронеже. Вот именно: служили царю и отечеству, замаливали грехи, работали над ошибками, пользовались доверием добрых попечителей страны, где между мужчинами принято целоваться взасос. Здесь вам на хрен с гитарой перед балконом донны Анны не помандолинишь.